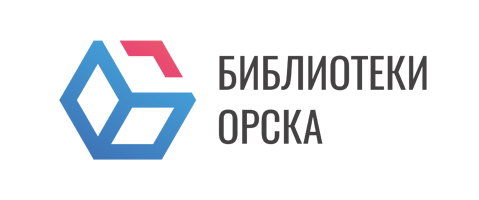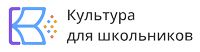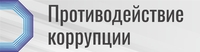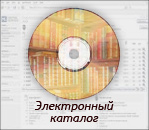Советуем почитать
Советуем почитать
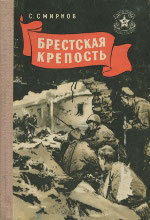 |
Сергей Смирнов (1915–1976) – участник Великой Отечественной войны с февраля 1943 года (Северо-Западный фронт). С июля 1943 года – военный корреспондент газеты «Мужество» 27-й армии. «Он был храбрым солдатом на поле боя и бескомпромиссным бойцом в литературе, в которой его утвердило беспредельно обостренное чувство гражданственности, неразрывной слитности своего «я» с судьбами страны и людей, которые более других заслужили уважение и нуждались в помощи… Он всегда был активен, пристрастен, в высшей степени чужд разъедающего человеческую личность равнодушия, его благородное сердце клокотало любовью и гневом. Он был из тех людей, которых возможно либо любить, либо ненавидеть. Его любили». (Василь Быков) |
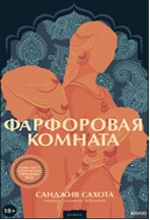 |
«Фарфоровая комната» вошла в лонг-лист Букеровской премии, стала книгой года по версии журналов Time, Daily Telegraph и Guardian. Но дело не в наградах. Сюжет романа и стиль автора цепляют больше, чем все официальные регалии. |
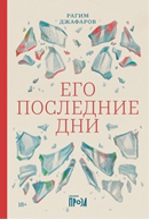 |
Безымянный герой романа «Его последние дни» Рагима Джафарова симулирует суицидальные наклонности, чтобы попасть в психиатрическую больницу, исследовать ее изнутри и написать книгу. Но он — вовсе не современное воплощение Нелли Блай, которая в конце позапрошлого века имитировала душевную болезнь, чтобы проникнуть в лечебницу и написать репортаж, изобличающий жестокое обращение с пациентами. Герой Джафарова пишет книгу о писателе, который… симулирует суицидальные наклонности, чтобы попасть в психиатрическую больницу, исследовать ее изнутри и написать книгу. Перед нами своего рода рекурсивный роман, при чтении которого читатель будто заглядывает в галерею из зеркал, бесконечно отражающих друг друга. Если в предыдущем «психиатрическом» романе «Сато» Джафаров препарировал процесс психотерапии и буквально на пальцах объяснял, как работают ее методы, то в «Его последних днях» он препарирует уже творческий процесс. Джафаров предлагает нам новый опыт: узнать, что происходит в голове — причем не самой здоровой — писателя во время работы над книгой. |
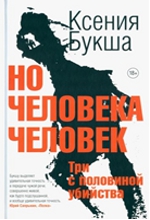 |
Проза Букши постоянно обращается к головоломной реальности и не терпит эскапистской фальши, проницательно говорит о человеческих отношениях, формирующих завтрашний день. Прежние тексты писательницы оставляли ощущение неиссякаемых аккумуляторов светлой энергии — в колючих картинах узнаваемой жизни внезапно находилось место для спасительных чудес. Даже в тревожных, мрачных рассказах «Открывается внутрь» человеку не было отказано в маленьком чуде, которое всегда случайно и не требует усилий. Новая книга — жесткая, заметно отличается от предыдущих. Чудесное вытеснено демоническим, текст при этом бьет током. Но речь, как всегда, идет о нас всех. «Дибок», «Чувак», «Я убил свою соседку», «Не жертва» — четыре небольшие истории, составляющие книгу о насилии, злобе и преступлениях, которыми переполнены криминальные новости. Персонажи отгораживаются от окружающих, снимают с себя всякую ответственность, агрессируют на близких — и вот происходит разрушительное замыкание, лопаются предохранители адекватности, гаснет свет. |
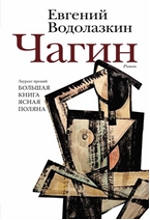 |
Из романа в роман Евгений Водолазкин разрабатывает систему интонаций, способную — теоретически, конечно, — если и не искоренить, то, по крайней мере, оправдать всю камерность, герметичность современной русской прозы. Таков факт старания. Ни больше ни меньше. Перегонка ничтожного в хрестоматийное осуществляется парой ловких манёвров, кажущихся иным чистой магией. |