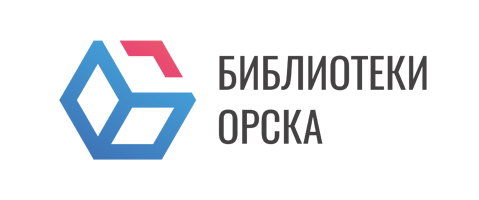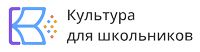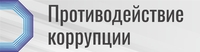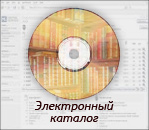Советуем почитать
Советуем почитать
 У последней книги Андрея Вознесенского печальная история. Новый сборник стихов был подготовлен самим поэтом к «некруглому юбилею – 77-летию», в итоге вышел уже после его смерти (ставшей для многих все же неожиданной). На страницах собраны стихи последних лет.
У последней книги Андрея Вознесенского печальная история. Новый сборник стихов был подготовлен самим поэтом к «некруглому юбилею – 77-летию», в итоге вышел уже после его смерти (ставшей для многих все же неожиданной). На страницах собраны стихи последних лет.Конечно, имя Андрея Вознесенского значимо, и мало кому взбредет в голову отрицать роль его творчества для 1960–1970-х годов, когда поэты-эстрадники собирали стадионы и стихами жгли этим стадионам сердца, фактически заменив своими выступлениями социально-политическую жизнь в стране. Тогда в особом почете был стих звонкий, емкий и крикливый. Отдельной строкой шло словотворчество и работа над звукописью. Большое внимание уделялось визуальным текстам, перевертышам и разного рода анаграммам, проще говоря, формальной стороне поэзии. Андрей Вознесенский остался верен традиции.
Однако сегодня языковые поиски поэта смотрятся достаточно неоднозначно, а местами и очень странно (хотя нужно отдать должное Вознесенскому, он ни на минуту не останавливался, стараясь идти в ногу со временем). В работе со словом он был мастером признанным, но человеком, судя по всему, увлекающимся. Ведь достаточно часто рядом со стихами неплохими и интересными встречается поэтическая тарабарщина, граничащая чуть ли не со знаменитым крученыховским «Дыр бул щур». «Мракобес, но не бездарен / муж Дарьин. / Не плох. Лоялен. / Лох Лялин» и так далее. Создается такое впечатление, будто Вознесенскому доставлял удовольствие сам процесс рифмования, что, в принципе, тоже неплохо. Ведь чтобы ни сказали критики, техническая сторона поэзии Вознесенского сильна. Думается, на любом поэтическом турнире Андрей Андреевич (будь он ныне жив) дал бы фору всякому ныне пишущему поэту, выхватывая рифмы на лету.
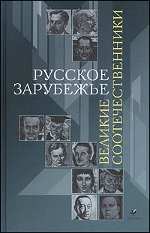 «Нет в России даже дорогих могил, может быть и были – только я забыл. Нету Петербурга, Киева, Москвы – может быть и были, да забыл, увы...». Кто знает, не эти ли строки Георгия Иванова лучше всего передают трагедию русской эмиграции? Катаклизмы ХХ века раскололи нацию на ту часть, что осталась на Родине, и на ту, которой пришлось оказаться в изгнании, вынужденном ли, добровольном ли.
«Нет в России даже дорогих могил, может быть и были – только я забыл. Нету Петербурга, Киева, Москвы – может быть и были, да забыл, увы...». Кто знает, не эти ли строки Георгия Иванова лучше всего передают трагедию русской эмиграции? Катаклизмы ХХ века раскололи нацию на ту часть, что осталась на Родине, и на ту, которой пришлось оказаться в изгнании, вынужденном ли, добровольном ли.К эмиграции первой волны отношение менялось – от опасливо-ледяного (типа «окопавшееся за границей белоэмигрантское отребье») до неофитски-восторженного в годы перестройки, когда мощным валом началось возвращение забытых и запретных имен наших великих соотечественников. Русское зарубежье стало чем-то вроде найденной вновь Атлантиды.
Для многих эмиграция была спасением – от преследований, от тюрьмы, от гибели в Советской России. Для других – попыткой обрести лучшее будущее, более обеспеченное и предсказуемое. И для подавляющего большинства, вне зависимости от причин, забросивших их в заграничные скитания, это была большая трагедия отрыва от родной почвы.
В книге «Русское зарубежье. Великие соотечественники» собраны очерки о сорока пяти представителях первой эмигрантской волны. Люди разных национальностей и вер, принадлежавшие к разным сферам – от культуры до науки, к разным социальным слоям, к различным политическим партиям. У каждого из них была своя судьба – у кого более счастливая, у кого менее. Объединяет их то, что остались они без России. И, что не менее прискорбно, Россия осталась без них. Можно только гадать о том, что было бы, если бы нашим соотечественникам не пришлось избрать для себя эмигрантскую долю, насколько богаче могла оказаться отечественная культура, десятилетия пребывавшая в расколотом состоянии. Но... Что произошло, то произошло.
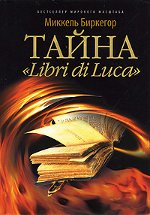 Для настоящего читателя книга о книге всегда интересна. Особенно, если это не просто познавательная литература, а увлекательный детектив, написанный умным и интеллектуально подкованным автором. К сожалению, таких книг мало не только в России, но и во всем мире. А настоящие шедевры можно пересчитать по пальцам.
Для настоящего читателя книга о книге всегда интересна. Особенно, если это не просто познавательная литература, а увлекательный детектив, написанный умным и интеллектуально подкованным автором. К сожалению, таких книг мало не только в России, но и во всем мире. А настоящие шедевры можно пересчитать по пальцам.Очередную попытку удивить нас детективом, в котором одним из героев стала книга, предпринял молодой датский писатель Миккель Биркегор, недавно посетивший Россию.
Дебютный роман писателя на родине, в Дании, произвел фурор. А вскоре был переведен более чем на 20 языков мира. Права на экранизацию книги купила одна из крупнейших местных кинокомпаний. Но съемки пока еще не начались.
Книга рассказывает о таинственной секте чтецов – людей, обладающих способностью вторгаться в сознание человека во время чтения. Чтецы делятся на две категории: вещающие – способные через чтение влиять на людей, и улавливающие, которые сами не читают, но легко входят в ваше сознание и слышат все, что читают даже про себя другие.
Если чтецы будут злоупотреблять своими способностями – они смогут манипулировать мыслями читателя, заставить принять выгодное для себя решение и даже довести его до самоубийства
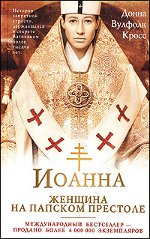 «Как человек образованный, он, конечно, знал, что никакой папессы Иоанны никогда не существовало». Так в честертоновском рассказе «Злой рок семьи Дарнуэй» проницательный отец Браун нашел ключ к загадке, подброшенной коварным преступником. Для создателей исторического фильма про женщину на папском престоле вопрос существования Иоанны не выглядит таким уж однозначным. Точнее, они уверяют нас – папесса Иоанна существовала!
«Как человек образованный, он, конечно, знал, что никакой папессы Иоанны никогда не существовало». Так в честертоновском рассказе «Злой рок семьи Дарнуэй» проницательный отец Браун нашел ключ к загадке, подброшенной коварным преступником. Для создателей исторического фильма про женщину на папском престоле вопрос существования Иоанны не выглядит таким уж однозначным. Точнее, они уверяют нас – папесса Иоанна существовала!Эпический фильм о жизни Европы раннего Средневековья, снятый совместными усилиями кинематографистов из Германии, Британии, Италии и Испании, основан на романе американки Донны Вулфолк Кросс. Книга о женщине на папском престоле – дебют специалиста по лингвистике в художественной литературе.
Так была ли вообще папесса Иоанна, которой патер Браун отказывал в существовании, а Донна Вулфолк Кросс выстроила целую биографию? Как говорится, науке это пока неизвестно. Есть легенда, согласно которой в IX веке престол римского понтифика занимала женщина – как папа Иоанн VIII. Впрочем, насчет времени правления «папессы» в легендарных версиях единого мнения нет. Кто-то относит ее жизнь к VIII столетию, кто-то к Х веку. Да и звали ли ее Иоанной? Одни хронисты называли ее Агнессой, другие Гильбертой. Словом, сплошной туман.
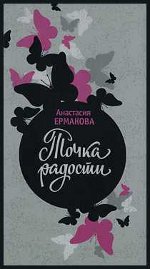 «Точка радости» - это женская проза. В том смысле женская, что чувственная. И в том смысле, что написана от первого лица, от имени женщины. Женщина эта нежная, грустящая, тоскующая, радостная.
«Точка радости» - это женская проза. В том смысле женская, что чувственная. И в том смысле, что написана от первого лица, от имени женщины. Женщина эта нежная, грустящая, тоскующая, радостная.В книгу Анастасии Ермаковой вошли три повести и десяток рассказов. Все они объединены героиней: у нее неустроенная личная жизнь и сердце, ищущее любви. Вот она ждет ребенка от бросившего мужа, а вот уже в другом тексте ребенок у бабушки, а героиня встречается с мужчинами, так и не находя единственного. Здесь разные героини, у них разные имена и разные обстоятельства, но все же это один и тот же женский тип, трепетный и горячий. И пускай то и дело звучит цветаевское «Мой милый, что тебе я сделала?», эта проза не оставляет впечатления отчаяния и безнадеги.
Наоборот, везде, подобно паутине под солнцем бабьего лета, искрится легкое, невесомое и золотистое счастье. Грустное и совсем непрочное, но счастье. Жан-Поль Сартр в одном из своих романов писал, что идеальное существование должно состоять из как можно большего числа «совершенных мгновений». «Похоже, это была очень женская мысль», - подумал я, читая «Точку радости» Ермаковой.
«Точка радости – особое душевное состояние, когда тебе хорошо, когда любишь все на свете: человека, с которым разговариваешь, скамейку, на которой сидишь, облака, деревья… Труднее всего сделать так, чтобы это состояние теплилось как можно дольше. Причем необходимо вызвать его в себе именно в настоящем, а не в прошлом. Вы ведь наверняка замечали, что прошлое кажется нам всегда чуть-чуть лучше, чем было на самом деле?.. Так вот – эта самая точка радости может внезапно открыться в самых обыденных вещах: во время прогулки, еды, даже во сне…»