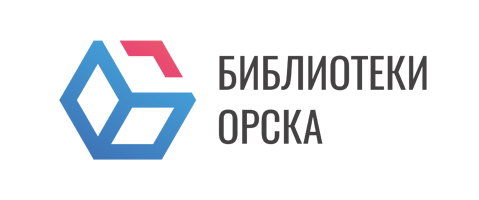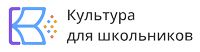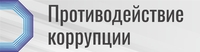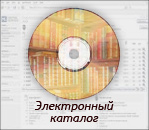Советуем почитать
Советуем почитать
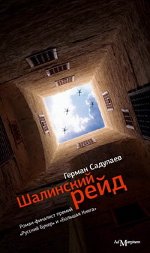 Конспект романа
Конспект романаНовый роман Садулаева «Шалинский рейд» попал в короткие списки двух наших главных литературных премий, «Букера» и «Большой книги», а сам писатель не так давно стал героем еще и политических новостей, вызвав своим интервью резкую отповедь президента Чечни Рамзана Кадырова.
Между тем «Шалинский рейд» заслуживает совсем другой оценки. Больше всего роман напоминает грамотную и умную политинформацию о Чечне. Лектор изъясняется на безупречно ясном и точном русском языке, дает очень толковые сведения о чеченских войнах, ее ключевых фигурах — Басаеве, Масхадове, Хаттабе, обязательно датируя события и помечая их на большой карте Чечни флажками.
Попутно он совершает экскурсы в смежные области: описывает представления обычных чеченцев о шариате (многие воображают шариат похожим на социализм), джихаде, традициях, окидывает зорким взором большой и малый бизнес, сопровождавший войны.
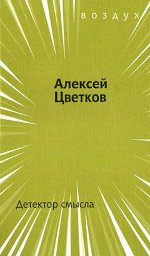 Лучший жребий для человека – вовсе не родиться на свет: это произносится с античности. Но ни у кого в русской поэзии эта мысль не была развита с такой ясностью и трагичностью, как у Цветкова.
Лучший жребий для человека – вовсе не родиться на свет: это произносится с античности. Но ни у кого в русской поэзии эта мысль не была развита с такой ясностью и трагичностью, как у Цветкова.Новая книга Алексея Цветкова – продолжение длительной работы автора с «проклятыми вопросами». Собственно, о цветковских книгах последних лет трудно сказать отдельные слова: книга здесь лишена собственной концепции, она только собирает вместе написанные за определенный период тексты. Важно то, чем эти тексты замечательны.
О главных темах цветковской поэзии много раз писали (в частности, Лиля Панн, Дмитрий Бак, Евгения Вежлян): при внешней герметичности текстов Цветкова их основные проблематика и пафос явны и узнаваемы. В новой книге Цветков, как и прежде, говорит о смерти, о Боге, о прошлом, но каждое новое стихотворение добавляет что-то существенное и непустое к продуманному и проговоренному ранее как самим Цветковым, так и его предшественниками.
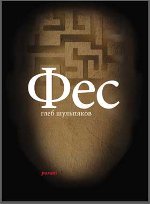 Путешествие по самому себе
Путешествие по самому себе«Фес» Глеба Шульпякова — роман о томлении духа поколения сорокалетних, «дума», наряженная в экзотические восточные одежды
Фес — город в Марокко, один из самых древних, причудливых, волшебных. На его площади сидят гадалки с овечьими лопатками, музыканты колотят в барабаны, напоминающие дыни, бормочут слепые сказочники, уродцы-нищие выпрашивают грошик. Чуть дальше, в ткацком квартале, стучат рамы, лежат горы шерсти, пахнущей молоком и навозом, в хлебном — пекутся длинные лепешки, а в подземельях следующего квартала стоят станки для выворачивания суставов и хранится колпак, смещающий шейные позвонки, — после такого нищий поворачивает голову за спину, как птица.
Впрочем, в новом романе Глеба Шульпякова название города произносится лишь однажды — в заглавии. Потому что какая разница, что это за город. Перед нами меньше всего путеводитель, эта история совсем про другой путь. Первобытная, жутковатая, таинственная жизнь, текущая по узким грязным улочкам, оборачивается метафорой человеческой жизни вообще. Любой, даже самой благополучной, если только снять с нее тонкую блестящую пленку и заглянуть туда… Что и проделывает безымянный московский издатель, молодой, успешный, женатый, ждущий ребенка — вот-вот.
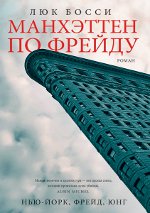 Двадцать первый век грозит нам не только истощением природных ресурсов. Мы с грустью вынуждены констатировать оскудение жанра герметического детектива. Наверно, можно сказать, что этот литературный жанр останется приметой ушедшей эпохи. Дело в том, что настоящий герметический детектив делается по канонам незыблемым, как золотое сечение. Единство времени, места и круга подозреваемых, то есть, простите, действующих лиц, здесь едва ли не важнее, чем в классической трагедии, поскольку на нем основывается простой механизм увлекательности: сразу сдав читателю на руки все карты и вовремя подкидывая улики, автор вовлекает его в действие, позволяя проводить следствие параллельно с героями. Но в этом принципе кроется западня: опытный читатель детективов довольно скоро выучивает, как шахматист, все партии и чаще всего узнает убийцу с первого взгляда. Потому писателям, желающим извлекать доход из этой почти выработанной золотой жилы, приходится идти на ухищрения, скажем, переносить акцент на запутанную любовную линию или отправлять персонажей расследовать какую-нибудь область, загадочную по самой своей природе. Чаще всего это деятельность каких-нибудь масонских лож и прочих тайных обществ, уходящая корнями в глубокую древность и имеющая оккультно-религиозный характер. Так устроена новая реинкарнация жанра, созданная Умберто Эко и ставшая мейнстримом с легкой руки Артуро Переса-Реверте и Дэна Брауна — интеллектуальный детектив.
Двадцать первый век грозит нам не только истощением природных ресурсов. Мы с грустью вынуждены констатировать оскудение жанра герметического детектива. Наверно, можно сказать, что этот литературный жанр останется приметой ушедшей эпохи. Дело в том, что настоящий герметический детектив делается по канонам незыблемым, как золотое сечение. Единство времени, места и круга подозреваемых, то есть, простите, действующих лиц, здесь едва ли не важнее, чем в классической трагедии, поскольку на нем основывается простой механизм увлекательности: сразу сдав читателю на руки все карты и вовремя подкидывая улики, автор вовлекает его в действие, позволяя проводить следствие параллельно с героями. Но в этом принципе кроется западня: опытный читатель детективов довольно скоро выучивает, как шахматист, все партии и чаще всего узнает убийцу с первого взгляда. Потому писателям, желающим извлекать доход из этой почти выработанной золотой жилы, приходится идти на ухищрения, скажем, переносить акцент на запутанную любовную линию или отправлять персонажей расследовать какую-нибудь область, загадочную по самой своей природе. Чаще всего это деятельность каких-нибудь масонских лож и прочих тайных обществ, уходящая корнями в глубокую древность и имеющая оккультно-религиозный характер. Так устроена новая реинкарнация жанра, созданная Умберто Эко и ставшая мейнстримом с легкой руки Артуро Переса-Реверте и Дэна Брауна — интеллектуальный детектив. В романе Люка Босси «Манхэттен по Фрейду» мы снова сталкиваемся с тайным обществом, чью деятельность можно назвать, по Фрейду же, реализацией метафоры: члены клуба — не масоны, но почти буквально «каменщики», вернее, архитекторы, мечтающие построить на Манхэттене город будущего, утопию небоскребов, и уже практически воплотившие свою мечту. Собственно детективная интрига сделана довольно небрежно, поэтому, и еще во избежание спойлеров, на ней не стоит останавливаться: главный и безусловный интерес в романе представляет сама эпоха, когда будущее буквально вламывалось в повседневную жизнь. Главные герои книги — изобретатель психоанализа Зигмунд Фрейд и его неблагодарный ученик Карл Густав Юнг, которые приезжают в Америку, чтобы прочитать цикл лекций о психоанализе в университете Кларка по приглашению американского психолога Стэнли Холла. Эта поездка — исторический факт, как и многое в романе, где вымышленные персонажи действуют рука об руку с реальными: не последнюю роль в действии играет, скажем, бог электричества, изобретатель Никола Тесла. В Америке Фрейд и Юнг — представители Старого Света — впервые сталкиваются, как наивные зрители, почти со всем, что сегодня составляет наш окружающий мир. На их глазах и на глазах читателя в жизнь впервые входят небоскребы (их фаллическая символика разнообразно обыгрывается к книге) и хот-доги, новорожденный кинематограф, кока-кола и женская эмансипация. В другом смысле, однако, они сами приносят в этот наивный и пуританский новый мир слово истины — психоанализ.
 «Заблуждение велосипеда» Ксении Драгунской — исповедь позднего ребенка с попыткой вернуть хоть что-нибудь вместо украденного в детстве двухколесного друга на белых шинах.
«Заблуждение велосипеда» Ксении Драгунской — исповедь позднего ребенка с попыткой вернуть хоть что-нибудь вместо украденного в детстве двухколесного друга на белых шинах.«Заблуждение велосипеда» ближе к взрослым пьесам Драгунской, которые на самом деле — сценические повести. А от ее адресуемых детям игр с Хармсом в этой книге о детстве вообще ничего нет. Ну разве в определении: «Биографической эта проза может быть названа условно».
Все вроде вполне мемуарно. Я Ксюша Драгунская. Мой папа — тот самый Виктор Драгунский, которого «Денискины рассказы». Поздний ребенок. Меня очень ждали, а потом оказалось — никому не нужна.
«Родили, даже не извинились, — сказала одна тормознутая девочка лет тринадцати. — А я теперь живи, мучайся...»