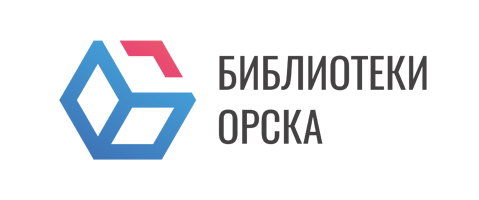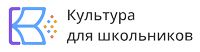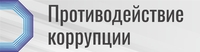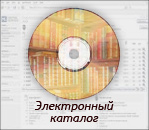Советуем почитать
Советуем почитать
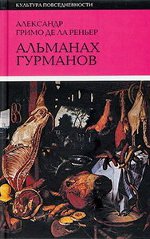 Появившийся в 1801 году во Франции, «Альманах Гурманов, призванный руководствовать любителями вкусно поесть», в России впервые был издан семь лет спустя и при переводе получил название «Прихотник, указующий легчайшие способы иметь наилучший стол». Автор его, Александр Гримо де Ла Реньер, известный гурман, посодействовавший возникновению традиции кулинарной болтовни, был незаслуженно забыт, и хотя многие пользовались его изобретениями, на автора они не ссылались. Теперь можно вновь познакомиться с тем, кто выпустил книгу о еде, охарактеризованную Верой Мильчиной как обращенную, «не к ее изготовителю (повару), а к ее потребителю; это была книга для чтения, посвященная исключительно еде: таких до Гримо еще не писали».
Появившийся в 1801 году во Франции, «Альманах Гурманов, призванный руководствовать любителями вкусно поесть», в России впервые был издан семь лет спустя и при переводе получил название «Прихотник, указующий легчайшие способы иметь наилучший стол». Автор его, Александр Гримо де Ла Реньер, известный гурман, посодействовавший возникновению традиции кулинарной болтовни, был незаслуженно забыт, и хотя многие пользовались его изобретениями, на автора они не ссылались. Теперь можно вновь познакомиться с тем, кто выпустил книгу о еде, охарактеризованную Верой Мильчиной как обращенную, «не к ее изготовителю (повару), а к ее потребителю; это была книга для чтения, посвященная исключительно еде: таких до Гримо еще не писали».
«Альманах…» – кулинарный путеводитель с помесячно разработанным «курсом»: в каждый месяц то или иное блюдо хорошо особенно. Впрочем, текст увлекательнее прозаичной поваренной книги, потому что рассказ о каждом из продуктов – не просто констатация фактов, а красочная иллюстрация, приводящая на ум живопись голландских натюрмортов, раблезианскую веселость и гротеск почти что гофмановский. Вот, например, пассаж, описывающий прелести мясной лавки господина Леблана: «На всех этажах развешаны полторы с лишним тысячи байоннских окороков: на полу и на потолке, на стенах и на окнах – повсюду одни только окорока. В этой ветчинной библиотеке ни одна дверь не закрывается, и свежий воздух, свободно гуляя по комнатам, ласкает и сберегает драгоценные мясные творения, зато все окна тут накрепко закрыты: ведь с улицы в дом могут налететь мухи. Что же до мышей и крыс, от них окорока охраняет роскошный черно-белый котище; этот верный страж имеет сходство со многими библиотекарями: он тоже никогда не дотрагивается до вверенных ему сокровищ.
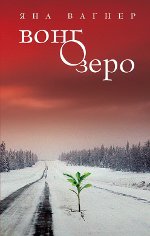 «Мама умерла во вторник, семнадцатого ноября. Я узнала об этом от соседки – особенная ирония заключалась в том, что ни я, ни мама никогда не были с ней близки, она была сварливая, недовольная жизнью женщина с неприветливым лицом, как будто вырубленным из камня…»
«Мама умерла во вторник, семнадцатого ноября. Я узнала об этом от соседки – особенная ирония заключалась в том, что ни я, ни мама никогда не были с ней близки, она была сварливая, недовольная жизнью женщина с неприветливым лицом, как будто вырубленным из камня…»
Так начиналась серия постов в одном из блогов ЖЖ. Его автор, молодая москвичка Яна Вагнер, писала от первого лица в разгар эпидемии вируса H1N1, («свиного гриппа») о том, как мир вокруг неё постепенно рушится и сходит с ума...
С самых первых строк её история затягивала, словно омут. Многие поначалу приняли это повествование за хронику реальных событий. Даже известие о том, что Москва незаметно закрылась на карантин, не выглядело таким уж фантастическим.
Так родился роман «Вонгозеро», недавно изданный «Эксмо». Пожалуй, со времен «Эвакуатора» Дмитрия Быкова столь убедительной антиутопии у нас не выходило. Пугающая близость к реальности – одна из главных отличительных особенностей «Вонгозера».
Антиутопия, роман-катастрофа, роуд-стори, постмодернистский триллер, — жанр романа одинаково хорошо укладывается во все эти определения. Яна Вагнер пишет о молодой семье, врасплох застигнутой эпидемией страшного вируса, незаметно для всех вышедшей из-под контроля и повлекшей настоящую социальную катастрофу. Героев книги выручает отец, когда-то занимавшийся математическим просчетом скорости распространения различных вирусов. Он-то и сообщает, что времени осталось совсем немного. Единственный шанс спастись – попытаться убежать как можно дальше от очагов вируса, то есть – от мест скопления людей. Перебрав несколько вариантов, герои решают отправиться в глухую карельскую тайгу, на Вонгозеро, в центре которого есть небольшой островок с заброшенной охотничьей избушкой…
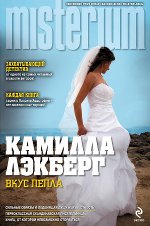 Второй по популярности (после Стига Ларссона) детективный автор из Швеции Камилла Лэкберг пишет удивительно атмосферные вещи, с одинаковым восторгом принимаемые как поклонниками психологических триллеров, так и ценителями романов об отношениях и, разумеется, оригинальных детективов.
Второй по популярности (после Стига Ларссона) детективный автор из Швеции Камилла Лэкберг пишет удивительно атмосферные вещи, с одинаковым восторгом принимаемые как поклонниками психологических триллеров, так и ценителями романов об отношениях и, разумеется, оригинальных детективов.
Камилла воссоздает на страницах своих книг немного мрачный, но пронзительно живописный и самобытный мир шведского пригорода, чья тихая с виду жизнь таит в себе огромное количество семейных тайн, бурных страстей, интриг и разочарований.
В книге «Вкус пепла», вышедшей в руском переводе в издательстве «Эксмо», рассказывается история странного и загадочного убийства, расследование которого выпадает на долю детектива Патрика Хедстрема.
Начиналось всё так. Выбирая ловушки для омаров, один рыбак обнаружил тело семилетней девочки. Вскрытие показало, что она действительно утонула, но не в море — ее легкие полны пресной воды с примесью мыла. К тому же — и это никак не удается объяснить — в желудке и легких жертвы найдена зола. Городок, живописно раскинувшийся вдоль моря, мал, но подозреваемых хватает. Например, сосед, много лет враждовавший с семьей девочки, или его сын, у которого явно не в порядке психика. Впрочем, в данном случае заподозрить можно кого угодно, ибо логически обоснованный мотив преступления просто невозможно себе представить! Тем не менее, он есть.
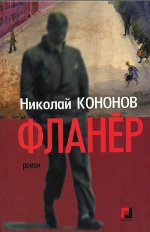 После Кузмина никто не писал на русском языке такую прозу — бесконечно требующих разъяснения, но никогда не выговариваемых любовных чувств, полагает ИГОРЬ ГУЛИН
После Кузмина никто не писал на русском языке такую прозу — бесконечно требующих разъяснения, но никогда не выговариваемых любовных чувств, полагает ИГОРЬ ГУЛИН
То, что прекрасный поэт Николай Кононов пишет прозу, выглядит немножко странно. Прозу не эссеистическую, не мемуарную, не экспериментальную или «поэтическую» («на грани стиха», если воспользоваться названием рубрики журнала «Воздух») — удач на каждый из этих случаев можно набрать внушительное количество. А будто бы традиционную — с героями, биографиями. Кажется, зона эта в современной русской литературе настолько зыбкая, что человеку, умеющему нечто другое (а в случае Кононова — это «другое» во многом определяющему), туда вроде бы незачем соваться. Поэтому от каждой прозаической книжки Кононова есть ощущение некоторого сбоя, отклонения с пути. И от ощущения этого не стоит отмахиваться — наоборот, этим отклонением, заходом «не туда» они, кажется, во многом и существуют.
При этом почти во всех предыдущих кононовских прозаических текстах — романах «Похороны кузнечика» и «Нежный театр», повестях книги «Магический бестиарий» — есть важный аспект своего рода «биографического искушения». Читателю, знающему два-три факта биографии поэта Кононова, каждый раз бросались в глаза совпадения судеб автора и его героев. И в сочетании с шокирующей интимностью повествования эти совпадения вызывали желание прочитать каждый текст как авторскую исповедь. Понятно было, что делать этого не стоит. Но искушение это каждый раз возникало, задавало одну из главных его координат чтения.
В романе «Фланёр» Кононов от нее отказывается. Тут как бы новая степень вымысла. События разворачиваются в 30—40-х годах XX века, и местами в довольно экзотических декорациях. Прочитать текст как опыт игровой автотерапии уже невозможно. Это именно роман, со многими подзабытыми коннотациями этого старого слова. И тут, конечно, есть большой риск: несмотря на отказ от опасной игры в исповедь, такой текст гораздо более беззащитен — по крайней мере в том культурном пространстве, в котором существует Кононов. И, скажем сразу, этот риск полностью оправдывает себя: «Фланёр» — лучшая его прозаическая книга.
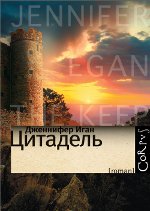 Очень старая идея о том, что реальности нет вообще, становится в последнее время пугающе актуальной
Очень старая идея о том, что реальности нет вообще, становится в последнее время пугающе актуальной
Обычное дело: только берешься о чем-то писать, как тут же откуда ни возьмись берется полезный материал. Вот и Михаил Назаренко, литературовед и автор повести «Остров Цейлон», в которой Антон Павлович Чехов встретился с адептами Ктулху, привел в своем блоге, как раз когда я начала писать эту рецензию, следующий фрагмент из книги Богомила Райнова «Массовая культура»: «Но вернемся к рассматриваемому литературному жанру и к его английским представителям, число которых к началу этого века устрашающе умножилось. <…>. Вероятно, с точки зрения приверженцев жанра, каждый из вышеупомянутых писателей обладает неповторимыми особенностями. Но на взгляд неспециалиста, вся эта компания выглядит довольно монотонно. Проклятие, лежащее на героях жанра, похоже, лежит и на авторах, и они, как заколдованные, бродят по скучным коридорам неизменного лабиринта шаблонов: это одинокие зловещие дома, населенные призраками; затонувшие или брошенные корабли, тоже полные призраков; проклятые сокровища, охраняемые теми же призраками; эликсиры, при помощи которых человек видит невидимое; отравленные напитки, превращающие тело в гнилой червивый студень; жаждущие крови вампиры с красными глазами и длинными острыми зубами; черные литургии, бесовские оргии, сделки с дьяволом, заклинания колдуний и чародеек, знамения, молнии и духи лесного, морского, горного и любого другого происхождения. Так что мы позволим себе пройти мимо всего этого репертуара навязчивых ужасов...».
Богомил Райнов, известный нам в основном как автор «Господина Никто» и других шпионских детективов, жанра, в силу самой своей природы зажатого в весьма жесткие рамки, тем не менее был беспощаден к готическому роману.
На деле готический роман (как, впрочем, любая другая литература жанра, кроме, пожалуй, дамского романа) весьма выразительно свидетельствует о мифах и страхах своего времени. Сама Дженнифер Иган в интервью, показательно озаглавленном We Become the Monsters We Fear: Jennifer Egan on Gothic, Paranoia, and The Keep («Мы превращаемся в монстров, которых боимся: Дженнифер Иган о готике, паранойе и “Цитадели”«), недаром говорит, что, работая над «Цитаделью», опиралась на готическую традицию. И недаром называет среди своих любимых книг романы Анны Радклифф, «Ребекку» Дафны Дюморье, и «Волхва» Джона Фаулза. «Цитадель», конечно, готический роман, или, если можно так сказать, неоготический. Страхи, которые транслирует нам автор, еще двадцать лет назад не существовали. Точнее, эти страхи существуют всегда, но каждый раз в ином выражении.