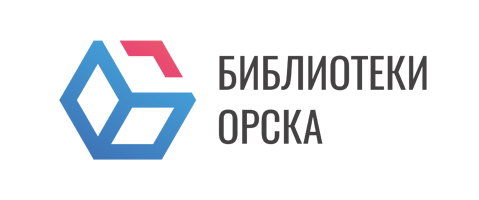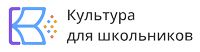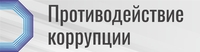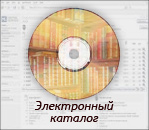Потрясение, которое вызывает мир концлагерей и холокост, кажется, как-то несовместимо с игрой воображения и фантазией... Вероятно, поэтому писателю так сложно быть до конца открытым, приходится рассчитывать на застывшие свидетельства и расхожие клише: «Те, кого убивали в концлагерях, ни в чем перед убийцами не провинились...» Коменданты, охранники и надзиратели просто «делали свою работу»: казнили. Не из мести, ненависти или потому, что заключенные стояли у них на пути или чем-то угрожали. Они были к ним «абсолютно равнодушны». «Настолько равнодушны, что им было все равно — убивать их или нет».
Потрясение, которое вызывает мир концлагерей и холокост, кажется, как-то несовместимо с игрой воображения и фантазией... Вероятно, поэтому писателю так сложно быть до конца открытым, приходится рассчитывать на застывшие свидетельства и расхожие клише: «Те, кого убивали в концлагерях, ни в чем перед убийцами не провинились...» Коменданты, охранники и надзиратели просто «делали свою работу»: казнили. Не из мести, ненависти или потому, что заключенные стояли у них на пути или чем-то угрожали. Они были к ним «абсолютно равнодушны». «Настолько равнодушны, что им было все равно — убивать их или нет».Вот, стало быть, почему люди делали такие ужасные вещи... Только при таком подходе картина получается несколько ущербной — вроде бы не говорится ничего такого, о чем бы следовало молчать, однако говорится не до конца. Такую недосказанность, когда что-то остается скрытым, — своего рода отрицание, которое порой можно расценить как незаметное предательство, Бернхард Шлинк сделал темой своего знаменитого «Чтеца» — одной из лучших немецких книг последних десятилетий (в Германии она была опубликована в 1995 году). В романе это слово — предательство — он намеренно повторяет в совершенно разных контекстах, словно пробуя на вкус, словно убеждаясь в его единой природе, идет ли речь о любви, о памяти или о преступлении.
Впрочем, «Чтец» притягивает не столько темой, сколько поразительно спокойной откровенностью и в то же время неумолимостью повествования — об этом. Все три части, из которых состоит роман, написаны как будто в разных жанрах. Первая, в которой нет, кажется, и намека на страшную тайну, — это воспоминания Михаэля Берга о своей первой подростковой любви к Ханне — женщине, намного его старше. Они наполнены трогательными признаниями, счастьем и тревогой, волнениями, тоской и смутными желаниями. Поэтому, когда их читаешь — словно пробираешься по лабиринту, где герой сам теряется, вновь себя находит, чтобы заплутать опять. Он рассказывает не спеша, не на одном дыхании, а так, словно, написав главу, прочитывает ее вам, как благодарному слушателю или другу, чтобы выслушать комментарий и, может, что-то изменить, уточнить, добавить. «Рассказ о нашей ссоре, — пишет он, — опять получился таким подробным, что надо дополнить его рассказом о нашем счастье. Ссора сблизила нас. Я увидел ее плачущей, и эта Ханна была мне ближе, чем та Ханна, которая всегда была сильной». Вторая часть описывает то, что случится семь лет спустя, когда он увидит ее снова — в зале суда среди бывших надзирательниц женского концлагеря на процессе против нацистских преступников. Вторая часть — это знакомство с делом, допрос обвиняемых, дотошное выяснение подробностей, слово адвоката, прокурора, обвинительное заключение судьи и, наконец, приговор. Уже не столько воспоминания, сколько их регистрация. Он теперь смотрит на нее сзади, видит ее голову, затылок, плечи и угадывает, что говорят эти голова, плечи, затылок. Фиксирует: она пришла в платье с вырезом, отчего видна родинка на левом плече, и эту родинку он целовал. И на этом всё — эта часть написана как будто под наркозом: словно то прошлое, которое открывается, не призвано вызывать чувств. Но все-таки... все-таки эта часть пронизана чем-то таким, что заставляет блуждать по тому, первому, лабиринту, хотя и думалось, что он уже пройден. Только здесь этот «лабиринт» превратился в схему, по которой нужно водить пальцем, чтобы понять: «ах, вот что скрывалось за тем ее жестом, вот что означало ее молчание». Но если пытаться понять преступника, то уже не получится осудить его так, как он должен быть осужден. Если же осудить — не останется места для понимания. А не пытаться понять того, кого любишь, — разве это не предательство? Двойная проблема, которую ставит Шлинк и для которой не находит в этой схеме двойного решения.
Что же касается третьей части, то она напоминает пробуждение после мучительной и затяжной болезни, когда заторможенность проходит и чувства уже не притуплены, как прежде, однако «выздоровление» не приносит ни силы, ни былой легкости, а возвращает лишь старые вопросы, страхи, самообвинения, угрызения совести — все ужасы и всю боль, которые мучили. Здесь он признается в том, что его личные страдания от любви к Ханне в определенной мере повторяли судьбу его поколения: «были немецкой судьбой». Понимаете, речь идет о судьбе — той судьбе, которой нельзя избежать и которую нельзя перехитрить, потому что образ Ханны, по версии Шлинка, можно заменить образом старой доброй соседки, или чьей-то подруги, или своей собственной мамы. «Суд шел над целым поколением, которое востребовало этих охранников и палачей».
Впрочем, Шлинк пишет и о другом поколении, которое в Германии иногда именуется «вторым», — о тех, кто, как и он сам, появился на свет в последние годы войны. «Что делать нам, новому поколению, с ужасными фактами истребления евреев?» — «Цепенеть от ужаса, стыда и сознания собственной вины?» А если так, то как долго? Не много найдется книг, где было бы столько вопросов, сколько в этой. Но именно в этой автор и герой стараются быть до ужаса честными — и прежде всего перед самими собой. И тогда, когда Михаэль признается, что одобряет арест Ханны — но не потому, что уверился в тяжести ее вины, а потому, что, пока она находится в заключении, не сможет быть рядом и останется тем, чем и должна быть — воспоминанием. И тогда, когда называет свое поведение нерешительным — но не из-за реальных переживаний, а от мысли: а какие переживания и какое поведение «должны приличествовать состоянию человека, только что посетившего концлагерь». Вероятно, сила этой книги в том, что герой Шлинка все время оценивает не столько других, сколько самого себя, точнее свое восприятие пережитого. «Почему я так думал?», «Почему я не мог ничего не делать?», «Почему я не писал ей?».
В «Чтеце»-фильме нет такой четкой и лаконичной трехчастной структуры. Там в воспоминаниях Рэйфа Файнса, который играет взрослого Михаэля, больше путаницы, как часто бывает во сне, когда, пробудившись, говоришь себе: «Такого не может быть», — потому что события, видите ли, не соответствуют времени, а обстоятельства жизни — месту. С другой стороны, при таком подходе не нужно прикладывать столько усилий, чтобы зримо восстановить черты того, что вспоминаешь. И фильм очень ярко высвечивает первые встречи автора с Ханной — Кейт Уинслет, сохраняет все подробности: от пепельно-русых волос, схваченных у нее на затылке, до той спокойной тщательности, с которой она намыливала их обоих под душем. И даже когда камера устает, а память делается расплывчатой, игра актрисы, в одном фильме исполнившей, по существу, роли трех женщин, настолько чудесна, что ее госпожа Шмип никогда не кажется безликой. Вы можете не помнить самой ее красоты, но знать, что Ханна казалась красивой, когда сквозь ее старое лицо мерцает молодое, — и вот она уже снова сидит в ванне, такая внимательная и серьезная, завороженная чтением Михаэля. Этой теме — чтению вслух, умению читать и писать — в фильме уделено едва ли не больше внимания, чем в книге. Поэтому, наверное, лучше прочесть роман Шлинка и посмотреть фильм Стивена Долдри, так как эти произведения дополняют друг друга.
Бройде В., Малков Д.
Источник: Книжное обозрение. — 2009. — № 23. — C. 8.