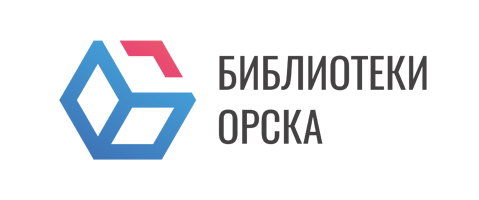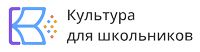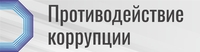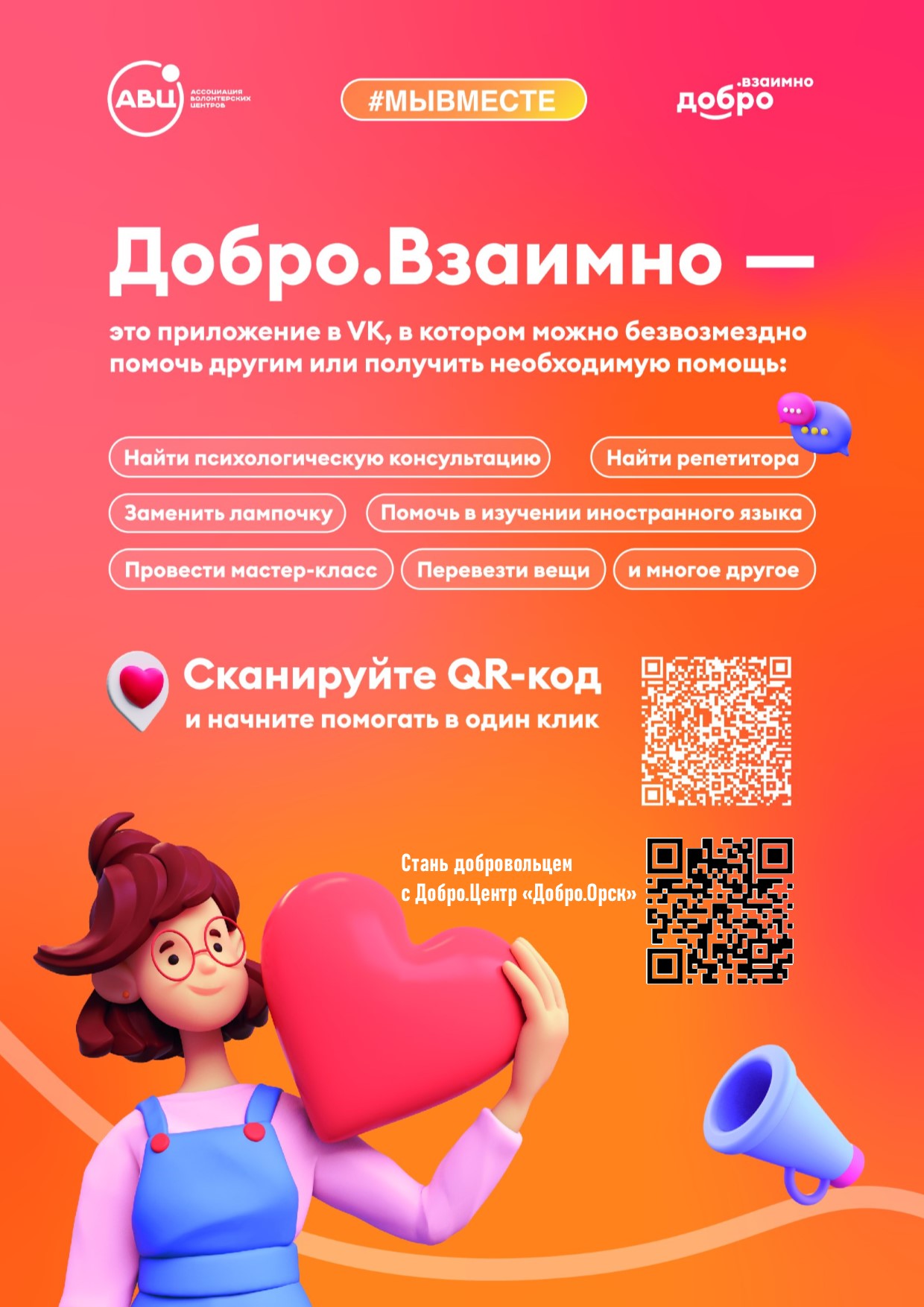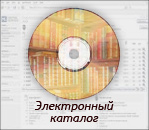28 февраля 1970 года редакция знаменитого журнала «Новый мир» в последний раз встретилась с уже бывшим главным редактором Александром Твардовским. Вынужденный покинуть свой пост, он простился с коллегами в редакции, однако воспользовался юбилеем одного из сотрудников, чтобы в последний день зимы вновь повидаться с коллективом уже в неформальной обстановке.
28 февраля 1970 года редакция знаменитого журнала «Новый мир» в последний раз встретилась с уже бывшим главным редактором Александром Твардовским. Вынужденный покинуть свой пост, он простился с коллегами в редакции, однако воспользовался юбилеем одного из сотрудников, чтобы в последний день зимы вновь повидаться с коллективом уже в неформальной обстановке. Александр Трифонович! Вы меня слышите? Или вы меня не слышите? Помню вас, и Москва вас помнит. Вот вы вышли из «Нового мира» — тогда он был напротив закрытой церкви без крестов на улице Чехова, теперь Малой Дмитровке. Вы шли с большой компанией по расплавленному асфальту, но в белой рубахе, при галстуке и в пиджаке. Пересекали улицу Горького напротив «Известий» и заходили в шашлычную в самом начале Тверского бульвара, где теперь сквер с фонтаном. В этой шашлычной кого только не было. Она и у Солженицына подробно описана в книге «Бодался телёнок с дубом».
Ох, и досталось вам там от Александра Исаевича! И советский-то вы насквозь, и с властями на «ты», и выпить не пропускаете. Последнее, конечно, верно. Чточто, а выпить... Ну, это и про Есенина, и про Блока можно сказать. Те тоже с властями в сложных отношениях были. Есенин и с Блюмкиным дружил, и Троцким был любим и обласкан (бр-р-р...) Ну а Твардовский разве не на вершине власти? Шутка сказать, член ЦК, главный редактор «Нового мира», лауреат всех мыслимых и немыслимых премий. В Третьяковке висит картина Ю. Непринцева «На привале» по его поэме «Василий Тёркин». Правда, нет ни в каких галереях картины «Тёркин на том свете».
...Там — рядами по годам
Шли в строю незримом
Колыма и Магадан,
Воркута с Нарымом.
За черту из-за черты,
С разницею малой,
Область вечной мерзлоты
В вечность их списала.
Ох, и досталось мне за эту поэму Твардовского! Я имел неосторожность по ней курсовую написать. Оценили на «отлично» и даже в университетской стенгазете напечатали. А затем разгромная статья в журнале «Рабоче-крестьянский корреспондент». Название-то какое у издания — из 20-х годов, не иначе. А на дворе начало 60-х. Мол, куда смотрит комсомол! Да и поэма Твардовского, хотя и напечатана в центральной прессе, далеко не бесспорна. Ещё бы: «Прибыл Тёркин / На тот свет, / А на этом убыл». А там ему объясняют, что и здесь есть «наш тот свет» и «их тот свет». На нашем том свете «нет ни пашни, ни покоса, ни заводов, ни станков», зато все всем руководят и всё контролируют. А на ихнем том свете — «там такие, брат, мамзели, то есть — просто нагишом».
Правда, Хрущёв Твардовского любил. Так любил, что и «Тёркина на том свете» напечатали, и, страшно сказать, «Один день Ивана Денисовича» Солженицына удалось пробить. Только чего всё это стоило Александру Трифоновичу, это знает только сам Александр Трифонович. Тут не только запьёшь, но и чтонибудь посерьёзнее над собой проделаешь.
До сих пор не могу понять, как смог поступить в ИФЛИ сын раскулаченного и поражённого в правах отца. Это потом он напишет: «Сын за отца не отвечает? Сын отвечает за отца». Он ответил им и «Тёркиным на том свете», и, главное, журналом «Новый мир». Сегодняшнему читателю не понять, какой взрывной силой обладали эти неказистого вида номера в голубых обложках, когда в них, может быть, не чаще, чем раз в год, а то и реже, вдруг раз — и появится какой-нибудь очерк Овечкина, где прямо и без прикрас будет показана жизнь советской деревни. Она, кстати, по быту мало чем отличается от деревни нынешней. И там всё вымирает, одни старики и старухи остались, и сейчас, полвека спустя, всё та же песня. Сколько себя помню, преступность повышается, а деревня вымирает.
Только сегодня таким репортажем никого не удивишь, а тогда это был эффект разорвавшейся бомбы. И всё это под лозунг Хрущёва: «Догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока и масла на душу населения». Нас в школе заставляли заучивать эту формулу, как молитву. Ну а население тотчас ответило частушкой: «Мы Америку догнали / по удою молока, / а по мясу не успели — / член сломался у быка».
А Твардовский всё печатал и печатал правдивые очерки о реальном положении дел, пока не «докатился» до Солженицына. Между прочим, после «Одного дня Ивана Денисовича» он чуть было «Раковый корпус» не напечатал. Уже всё было на мази. Вообще-то эта вещь Солженицына не так остра, как описание одного лагерного дня. И дело происходит не в лагере, а в обычной больнице. Правда, пациент — партийный босс, да ещё с подозрением на рак.
Тут надо вспомнить, что в советской литературе умирать вообще не принято. Можно пасть смертью храбрых. Но чтобы партийный работник на больничной койке, как простой смертный, загибался — это ни боже мой. Явная крамола и контра. «Раковый корпус» Твардовскому напечатать не удалось, несмотря на благосклонность Хрущёва.
Хрущёву всё было понятно и близко в Твардовском. Оба из деревни. Правда, Хрущёв был на редкость невежествен. Твардовский же, будучи изгоем, сыном раскулаченного, закончил знаменитый Институт истории философии и литературы. Сталин потом спохватился и прихлопнул этот рассадник заразы. Шибко умные из него выходили. А советская власть шибко умных считала главными врагами.
Твардовский был уже знаменитым поэтом. Автором «Страны Муравии», которую то возносили на щит, то объявляли кулацкой. Ничего кулацкого в поэме не было. Молодой сын раскулаченного крестьянина искренне верил в колхозы. Искренне-то искренне, да вот без ненависти к отцу. Не отрекается он от него, с любовью пишет. А в то время положено было отрекаться. Был такой партийно-комсомольский обряд — отречение. Оно и понятно. По крайней мере, у трети комсомольцев отцы были либо кулаки, либо, ещё хуже, священники, либо дворяне, либо купцы, либо служили в белой гвардии, либо просто погибли в застенках ЧК. Отрекались вдохновенно, в стихах и в прозе, на митингах и собраниях. Александр Трифонович не отрёкся. И, несмотря на членство в партии и в ЦК, в его партийной анкете в графе «происхождение» значилось «сын кулака».
Вообще-то после гибели Сергея Есенина в советской культуре образовалась пустая ниша для живого народного поэта. Вот эту пустующую нишу и занял по праву Александр Трифонович Твардовский. Правда, было одно несоответствие — поэт ничего не писал о любви. Но тут произошло разделение труда. О любви писал Константин Симонов, тоже, кстати, редактор «Нового мира» и тоже член ЦК.
И Твардовского, и Симонова временами нещадно били. Но та же тяжёлая десница, которая била, могла и вознести к высоким вершинам. Как поётся, «судьба играет человеком, / она изменчива всегда — / то вознесёт его высоко, / то бросит в бездну без следа». Во время войны и Симонов, и Твардовский были военными корреспондентами. И оба вынесли из боёв гениальные стихотворения. Симонов — «Жди меня», Твардовский — «Я убит подо Ржевом». О ржевском плацдарме, где по прихоти Сталина уложили полтора миллиона солдат, говорить было не принято. И только стих Твардовского напомнил беспамятной стране об ужасной цене победы. Не очень-то я люблю это выражение — цена победы. Словно кто-то действительно торговался. В том-то и ужас, что никто не торговался. «Войны без жертв не бывает». «Бабы новых нарожают». Эти два изречения Сталина полностью объясняют и исчерпывают тактику и стратегию недобитого генералиссимуса.
Впрочем, всё не так просто. Было время, когда молодой Твардовский искренне любил и восхвалял Сталина. Надо решительно отказаться от интонации осуждения или оправдания, когда речь идёт об уже ушедшей эпохе. Удивляться надо не тому, что Твардовский когда-то верил в благодатность коллективизации, отнявшей у него родного отца, а тому, что в отличие от многих и многих Александр Трифонович прозрел. И оставаясь полностью советским человеком, резко осудил и сталинизм, и варварское раскулачивание, и весь репрессивный прогнивший партийно-бюрократический образ жизни. Он печатал Солженицына и писал «Тёркин на том свете», искренне веря, что ветер истории «дует в наши паруса». Типичный шестидесятник, он мечтал об исправлении ошибок прошлого и думал, что существует социализм с человеческим лицом. Эта вера превращала его в эстетического жандарма, когда он клялся, что никогда не напечатает Пастернака и Марину Цветаеву. Он эту клятву сдержал. «Новый мир» и сегодня подобных стихов не печатает.
Пусть читатель вероятный
Скажет с книжкою в руке:
— Вот стихи, а всё понятно,
Всё на русском языке...
Хорошо сказано, да только с такой эстетикой ни Хлебникова, ни раннего Маяковского, ни позднего Мандельштама в поэзию не пропустишь. Их и не пропустили. Раннего Маяковского вынесли за скобки. Хлебникова и Мандельштама фактически запретили почти на полвека. Поэтому простите, Александр Трифонович, сложное у меня к вам отношение. Для меня, аспиранта, идущего по Тверскому бульвару мимо той самой шашлычной, где вы со своими соратником Лакшиным терзали шашлык, вы были прежде всего советским вельможей и суровым тюремщиком поэзии, не пропускающим в светлые палаты «Нового мира» ничего живого поэтического. Оценка моя вашей деятельности тогда полностью совпадала с тем, что написал о вас Солженицын в блистательном памфлете «Бодался телёнок с дубом». Если бы не этот роковой день, когда я зашёл на кафедру русской литературы Литературного института на Тверском бульваре и профессор Семён Иосифович Машинский с побледневшим лицом не встретил меня фразой: «Слыхали? Только что Твардовского сняли с должности редактора «Нового мира».
Тут, говоря словами нелюбимого Твардовским Маяковского, «потолок на нас пошёл снижаться вороном». Рухнула последняя надежда найти хоть какой-то компромисс с идиотической властью. С уходом Твардовского «Новый мир» перестал быть новым и перестал быть миром. Мне уже не светила диссертация о Хлебникове, — дай Бог, чтобы о Пушкине и Гоголе с Лермонтовым разрешили что-то сказать. Из своей поэзии я и при Твардовском не мечтал что-либо напечатать. Никогда не понимал «понятной» поэзии. Ну, это моя поэтическая стратегия, пусть она при мне и останется.
Честно говоря, и «Василий Тёркин» раздражал меня своей бравурностью на крови. Если бы не переправа: «Кому память, кому слава, / Кому тёмная вода, — / Ни приметы, ни следа».
Тут опять вы, Александр Трифонович, нарушили советское благочестие, напомнили о цене победы. Это в те времена, когда только в раскритикованной повести Эммануила Казакевича «Звезда» солдаты могли погибнуть. Погибать должны были враги, а не положительные герои. Вот и вы, словно советский положительный герой, всю жизнь побеждали. И только в финале...
Впрочем, финалу предшествовала заминка. Вы написали письмо в Политбюро с просьбой не считать вас сыном раскулаченного, а вашего отца кулаком. Казалось бы, сущая ерунда. Член ЦК просит восстановить справедливость по отношению к отцу. На дворе не тридцатые, а шестидесятые.
Ответ из Политбюро прозвучал как приговор. Члену ЦК, лауреату Ленинской и Государственной премий, орденоносному автору «Василия Тёркина» и главному редактору «Нового мира» в просьбе было категорически отказано.
Отомстила партийная элита и за «Один день Ивана Денисовича», и за «Матрёнин двор», и за мемуары Ильи Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь», и за «Тёркина на том свете». Вот тебе, кулацкая морда! Вся беда в том, что Твардовский дорожил мнением этих политбюровцев, в отличие от него давно утративших связь со страной и с людьми, в ней живущими.
Отстранение Твардовского от «Нового мира» — такая же знаковая дата, как ввод войск в Чехословакию. Полное крушение всех надежд на спокойное и мирное выздоровление страны от сталинизма.
Советская власть умудрялась делать врагов из самых яростных своих сторонников. Твардовский был до мозга костей советским поэтом, советским редактором и советским человеком. Советским, но без людоедства и явных глупостей.
А без людоедства и глупостей мы не можем.
Его хоронили с почестями, но как-то воровато. Понимали, что уморили собственного поэта. Не Есенин, конечно, но что ни говори — Твардовский.
Нелюбимый Твардовским Пастернак назвал поэзию дымящейся совестью в кубической форме книги. Это определение подходит не столько к поэзии Александра Трифоновича, сколько к его редакторской деятельности. Совесть оживала в нём не благодаря, а вопреки всему, чем он должен был заниматься. В начале 60-х ему казалось, что горизонты раздвинулись, и появилась странная поэма «За далью даль». На самом деле позади был ГУЛАГ, ещё не обозначенный Солженицыным, а впереди грязный болотистый застой. Ну а третьей «далью» стал вполне закономерный развал советской империи.
Разумеется, всё могло быть иначе, если бы прислушались к многоголосому хору «Нового мира» Твардовского.
http://www.ekhoplanet.ru/history_2033_9923
Шли в строю незримом
Колыма и Магадан,
Воркута с Нарымом.
За черту из-за черты,
С разницею малой,
Область вечной мерзлоты
В вечность их списала.
Ох, и досталось мне за эту поэму Твардовского! Я имел неосторожность по ней курсовую написать. Оценили на «отлично» и даже в университетской стенгазете напечатали. А затем разгромная статья в журнале «Рабоче-крестьянский корреспондент». Название-то какое у издания — из 20-х годов, не иначе. А на дворе начало 60-х. Мол, куда смотрит комсомол! Да и поэма Твардовского, хотя и напечатана в центральной прессе, далеко не бесспорна. Ещё бы: «Прибыл Тёркин / На тот свет, / А на этом убыл». А там ему объясняют, что и здесь есть «наш тот свет» и «их тот свет». На нашем том свете «нет ни пашни, ни покоса, ни заводов, ни станков», зато все всем руководят и всё контролируют. А на ихнем том свете — «там такие, брат, мамзели, то есть — просто нагишом».
Правда, Хрущёв Твардовского любил. Так любил, что и «Тёркина на том свете» напечатали, и, страшно сказать, «Один день Ивана Денисовича» Солженицына удалось пробить. Только чего всё это стоило Александру Трифоновичу, это знает только сам Александр Трифонович. Тут не только запьёшь, но и чтонибудь посерьёзнее над собой проделаешь.
До сих пор не могу понять, как смог поступить в ИФЛИ сын раскулаченного и поражённого в правах отца. Это потом он напишет: «Сын за отца не отвечает? Сын отвечает за отца». Он ответил им и «Тёркиным на том свете», и, главное, журналом «Новый мир». Сегодняшнему читателю не понять, какой взрывной силой обладали эти неказистого вида номера в голубых обложках, когда в них, может быть, не чаще, чем раз в год, а то и реже, вдруг раз — и появится какой-нибудь очерк Овечкина, где прямо и без прикрас будет показана жизнь советской деревни. Она, кстати, по быту мало чем отличается от деревни нынешней. И там всё вымирает, одни старики и старухи остались, и сейчас, полвека спустя, всё та же песня. Сколько себя помню, преступность повышается, а деревня вымирает.
Только сегодня таким репортажем никого не удивишь, а тогда это был эффект разорвавшейся бомбы. И всё это под лозунг Хрущёва: «Догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока и масла на душу населения». Нас в школе заставляли заучивать эту формулу, как молитву. Ну а население тотчас ответило частушкой: «Мы Америку догнали / по удою молока, / а по мясу не успели — / член сломался у быка».
А Твардовский всё печатал и печатал правдивые очерки о реальном положении дел, пока не «докатился» до Солженицына. Между прочим, после «Одного дня Ивана Денисовича» он чуть было «Раковый корпус» не напечатал. Уже всё было на мази. Вообще-то эта вещь Солженицына не так остра, как описание одного лагерного дня. И дело происходит не в лагере, а в обычной больнице. Правда, пациент — партийный босс, да ещё с подозрением на рак.
Тут надо вспомнить, что в советской литературе умирать вообще не принято. Можно пасть смертью храбрых. Но чтобы партийный работник на больничной койке, как простой смертный, загибался — это ни боже мой. Явная крамола и контра. «Раковый корпус» Твардовскому напечатать не удалось, несмотря на благосклонность Хрущёва.
Хрущёву всё было понятно и близко в Твардовском. Оба из деревни. Правда, Хрущёв был на редкость невежествен. Твардовский же, будучи изгоем, сыном раскулаченного, закончил знаменитый Институт истории философии и литературы. Сталин потом спохватился и прихлопнул этот рассадник заразы. Шибко умные из него выходили. А советская власть шибко умных считала главными врагами.
Твардовский был уже знаменитым поэтом. Автором «Страны Муравии», которую то возносили на щит, то объявляли кулацкой. Ничего кулацкого в поэме не было. Молодой сын раскулаченного крестьянина искренне верил в колхозы. Искренне-то искренне, да вот без ненависти к отцу. Не отрекается он от него, с любовью пишет. А в то время положено было отрекаться. Был такой партийно-комсомольский обряд — отречение. Оно и понятно. По крайней мере, у трети комсомольцев отцы были либо кулаки, либо, ещё хуже, священники, либо дворяне, либо купцы, либо служили в белой гвардии, либо просто погибли в застенках ЧК. Отрекались вдохновенно, в стихах и в прозе, на митингах и собраниях. Александр Трифонович не отрёкся. И, несмотря на членство в партии и в ЦК, в его партийной анкете в графе «происхождение» значилось «сын кулака».
Вообще-то после гибели Сергея Есенина в советской культуре образовалась пустая ниша для живого народного поэта. Вот эту пустующую нишу и занял по праву Александр Трифонович Твардовский. Правда, было одно несоответствие — поэт ничего не писал о любви. Но тут произошло разделение труда. О любви писал Константин Симонов, тоже, кстати, редактор «Нового мира» и тоже член ЦК.
И Твардовского, и Симонова временами нещадно били. Но та же тяжёлая десница, которая била, могла и вознести к высоким вершинам. Как поётся, «судьба играет человеком, / она изменчива всегда — / то вознесёт его высоко, / то бросит в бездну без следа». Во время войны и Симонов, и Твардовский были военными корреспондентами. И оба вынесли из боёв гениальные стихотворения. Симонов — «Жди меня», Твардовский — «Я убит подо Ржевом». О ржевском плацдарме, где по прихоти Сталина уложили полтора миллиона солдат, говорить было не принято. И только стих Твардовского напомнил беспамятной стране об ужасной цене победы. Не очень-то я люблю это выражение — цена победы. Словно кто-то действительно торговался. В том-то и ужас, что никто не торговался. «Войны без жертв не бывает». «Бабы новых нарожают». Эти два изречения Сталина полностью объясняют и исчерпывают тактику и стратегию недобитого генералиссимуса.
Впрочем, всё не так просто. Было время, когда молодой Твардовский искренне любил и восхвалял Сталина. Надо решительно отказаться от интонации осуждения или оправдания, когда речь идёт об уже ушедшей эпохе. Удивляться надо не тому, что Твардовский когда-то верил в благодатность коллективизации, отнявшей у него родного отца, а тому, что в отличие от многих и многих Александр Трифонович прозрел. И оставаясь полностью советским человеком, резко осудил и сталинизм, и варварское раскулачивание, и весь репрессивный прогнивший партийно-бюрократический образ жизни. Он печатал Солженицына и писал «Тёркин на том свете», искренне веря, что ветер истории «дует в наши паруса». Типичный шестидесятник, он мечтал об исправлении ошибок прошлого и думал, что существует социализм с человеческим лицом. Эта вера превращала его в эстетического жандарма, когда он клялся, что никогда не напечатает Пастернака и Марину Цветаеву. Он эту клятву сдержал. «Новый мир» и сегодня подобных стихов не печатает.
Пусть читатель вероятный
Скажет с книжкою в руке:
— Вот стихи, а всё понятно,
Всё на русском языке...
Хорошо сказано, да только с такой эстетикой ни Хлебникова, ни раннего Маяковского, ни позднего Мандельштама в поэзию не пропустишь. Их и не пропустили. Раннего Маяковского вынесли за скобки. Хлебникова и Мандельштама фактически запретили почти на полвека. Поэтому простите, Александр Трифонович, сложное у меня к вам отношение. Для меня, аспиранта, идущего по Тверскому бульвару мимо той самой шашлычной, где вы со своими соратником Лакшиным терзали шашлык, вы были прежде всего советским вельможей и суровым тюремщиком поэзии, не пропускающим в светлые палаты «Нового мира» ничего живого поэтического. Оценка моя вашей деятельности тогда полностью совпадала с тем, что написал о вас Солженицын в блистательном памфлете «Бодался телёнок с дубом». Если бы не этот роковой день, когда я зашёл на кафедру русской литературы Литературного института на Тверском бульваре и профессор Семён Иосифович Машинский с побледневшим лицом не встретил меня фразой: «Слыхали? Только что Твардовского сняли с должности редактора «Нового мира».
Тут, говоря словами нелюбимого Твардовским Маяковского, «потолок на нас пошёл снижаться вороном». Рухнула последняя надежда найти хоть какой-то компромисс с идиотической властью. С уходом Твардовского «Новый мир» перестал быть новым и перестал быть миром. Мне уже не светила диссертация о Хлебникове, — дай Бог, чтобы о Пушкине и Гоголе с Лермонтовым разрешили что-то сказать. Из своей поэзии я и при Твардовском не мечтал что-либо напечатать. Никогда не понимал «понятной» поэзии. Ну, это моя поэтическая стратегия, пусть она при мне и останется.
Честно говоря, и «Василий Тёркин» раздражал меня своей бравурностью на крови. Если бы не переправа: «Кому память, кому слава, / Кому тёмная вода, — / Ни приметы, ни следа».
Тут опять вы, Александр Трифонович, нарушили советское благочестие, напомнили о цене победы. Это в те времена, когда только в раскритикованной повести Эммануила Казакевича «Звезда» солдаты могли погибнуть. Погибать должны были враги, а не положительные герои. Вот и вы, словно советский положительный герой, всю жизнь побеждали. И только в финале...
Впрочем, финалу предшествовала заминка. Вы написали письмо в Политбюро с просьбой не считать вас сыном раскулаченного, а вашего отца кулаком. Казалось бы, сущая ерунда. Член ЦК просит восстановить справедливость по отношению к отцу. На дворе не тридцатые, а шестидесятые.
Ответ из Политбюро прозвучал как приговор. Члену ЦК, лауреату Ленинской и Государственной премий, орденоносному автору «Василия Тёркина» и главному редактору «Нового мира» в просьбе было категорически отказано.
Отомстила партийная элита и за «Один день Ивана Денисовича», и за «Матрёнин двор», и за мемуары Ильи Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь», и за «Тёркина на том свете». Вот тебе, кулацкая морда! Вся беда в том, что Твардовский дорожил мнением этих политбюровцев, в отличие от него давно утративших связь со страной и с людьми, в ней живущими.
Отстранение Твардовского от «Нового мира» — такая же знаковая дата, как ввод войск в Чехословакию. Полное крушение всех надежд на спокойное и мирное выздоровление страны от сталинизма.
Советская власть умудрялась делать врагов из самых яростных своих сторонников. Твардовский был до мозга костей советским поэтом, советским редактором и советским человеком. Советским, но без людоедства и явных глупостей.
А без людоедства и глупостей мы не можем.
Его хоронили с почестями, но как-то воровато. Понимали, что уморили собственного поэта. Не Есенин, конечно, но что ни говори — Твардовский.
Нелюбимый Твардовским Пастернак назвал поэзию дымящейся совестью в кубической форме книги. Это определение подходит не столько к поэзии Александра Трифоновича, сколько к его редакторской деятельности. Совесть оживала в нём не благодаря, а вопреки всему, чем он должен был заниматься. В начале 60-х ему казалось, что горизонты раздвинулись, и появилась странная поэма «За далью даль». На самом деле позади был ГУЛАГ, ещё не обозначенный Солженицыным, а впереди грязный болотистый застой. Ну а третьей «далью» стал вполне закономерный развал советской империи.
Разумеется, всё могло быть иначе, если бы прислушались к многоголосому хору «Нового мира» Твардовского.
http://www.ekhoplanet.ru/history_2033_9923