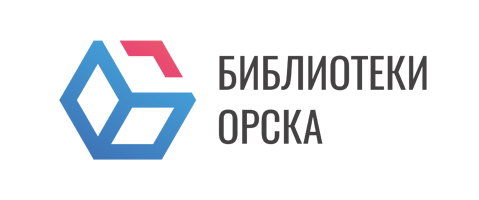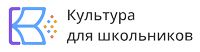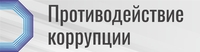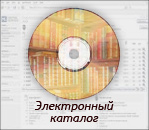Новости библиотеки
Советуем почитать
Советуем почитать
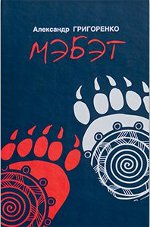 Выверенная простота слога и четкость композиции: прозрачностью и строгостью они напоминают северный воздух. Ни излишней метафорики, ни ненужных украшений-побрякушек.
Выверенная простота слога и четкость композиции: прозрачностью и строгостью они напоминают северный воздух. Ни излишней метафорики, ни ненужных украшений-побрякушек.Родился в тайге, в каком-то времени и месте, Мэбэт, любимец богов. Эгоистичный как Ларра, но спокойнее, увереннее и цельнее, он ни в чем не знал отказа и всегда получал желаемое, счастье принимал как должное. Охота была неизменно удачна, сражения оканчивались победами, женщины подчинялись каждому слову. У Мэбэта было слишком много, словно он не просто человек, а дитя богов. Но на каждый яд есть противоядие, в каждом правиле есть исключения, любой заговор имеет ахиллесову пяту. И Мэбэт, не знавший поражений, сам согласится стать просто человеком, миновать страшные девять чумов – таежный ад (чистилище?), совершая чудо во имя жизни и любви.
Все это напоминает не только джармушевского «Мертвеца» или странствия греко-римских героев, но и отчетливо связано с северной мифологией. Легенды, поверья и сказания ненцев проступают говорящими медвежьими головами, ведьмами-шаманками, страшными ликами потустороннего мира. Быт проявляется также отчетливо: именами (Мэбэт, Хадне, Хадко, Ядне, Няруй, Войпель), племенами, обрядами (которые главный герой старательно не соблюдает), значимостью цвета в оперении стрел, едой, жилищами и описанием тягот зимнего существования. А еще – выверенной простотой слога и четкостью композиции: прозрачностью и строгостью они напоминают северный воздух. Ни излишней метафорики, ни ненужных украшений-побрякушек: «И вдруг Мэбэт понял — не красота нежданной невесты и не остатки отчаяния заговорили в Хадко. В нем проснулась та изначальная, самая первая, звериная война, которая предшествовала всем войнам — за земли, богатства и власть, ради мести, славы или простого желания убить. Это война за женщину. Звери разрывают друг друга в битвах за самку. Боги ревнуют и бьются за благосклонность богинь. Женщины — первая добыча племени, выброшенного судьбой в чужие необжитые места. Потом, если набег выйдет удачным и существование племени не прекратится, в силу вступит обычай. Но первая война остается первой войной — она прячется глубоко в крови мужчины и выходит наружу, когда все приходится начинать сначала…»
«Мэбэт» – полувестерн, полусказка, увлекательное таежное преданье с мистическим уклоном. Но при всей своей неповторимости роман Григоренко не так одинок в современной литературе, как может показаться. Исконный уральский фольклор использует Алексей Иванов, мифы олонхо живут в «Земле удаганок» Ариадны Борисовой, северной мифологией пропитан «Номер Один, или в садах других возможностей» Людмилы Петрушевской, сказами Бажова полнится «2017» Ольги Славниковой. И это только те авторы, которые сознательно дистанцировались от жанра фэнтези. Как кажется, прорастание фольклора в современную литературу вполне может стать тенденцией. При осторожном и нешаблонном использовании такой материал – золотая жила для писателя, предпочитающего обыгрывать многомерность реальности. Григоренко в «Мэбэте» взял фольклор не просто фоном, а сплавил ненецкую мифологию почти что в эпос. Получилось как минимум интересно.
http://www.chaskor.ru/article/nastuplenie_mifa_25253
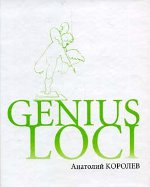 Говорят, будто «Genius loci» — вообще-то давний текст Анатолия Королёва, написанный задолго до «Головы Гоголя», — будучи опубликован (боже мой, уже двадцать один год назад) в толстом журнале, поразил своих тогдашних читателей. Ну как это возможно, недоумевали люди конца восьмидесятых, чьи читательские привычки были не в пример традиционнее наших нынешних, — делать героем повествования не человека, а кусок пространства? И даже не город, что было бы ещё понятно — у этого есть, в конце концов, богатейшие традиции, -, а пейзажный парк: область меж природой и культурой, куда более близкую к первой из них, чем ко второй. Роль героя досталась парку Аннибала — пейзажному парку в окрестностях Петербурга. Его историю — скорее, биографию — читателю предлагалось прожить, отчасти в лицах, на протяжении по меньшей мере трёх столетий, а по большому счёту — ещё с языческих времён, когда на территории позднейшего парка была священная Перунова роща.
Говорят, будто «Genius loci» — вообще-то давний текст Анатолия Королёва, написанный задолго до «Головы Гоголя», — будучи опубликован (боже мой, уже двадцать один год назад) в толстом журнале, поразил своих тогдашних читателей. Ну как это возможно, недоумевали люди конца восьмидесятых, чьи читательские привычки были не в пример традиционнее наших нынешних, — делать героем повествования не человека, а кусок пространства? И даже не город, что было бы ещё понятно — у этого есть, в конце концов, богатейшие традиции, -, а пейзажный парк: область меж природой и культурой, куда более близкую к первой из них, чем ко второй. Роль героя досталась парку Аннибала — пейзажному парку в окрестностях Петербурга. Его историю — скорее, биографию — читателю предлагалось прожить, отчасти в лицах, на протяжении по меньшей мере трёх столетий, а по большому счёту — ещё с языческих времён, когда на территории позднейшего парка была священная Перунова роща.Теперь, жизнь спустя, «повесть-эссе», как сам Королёв определил жанр своего текста, вышла отдельной книгой.
В девяностом году прошлого века это читалось — отчасти, надо думать, и писалось — не без характерных для тех лет публицистических обертонов: текст давал основания видеть в нём очередной стимул к размышлениям об «экологии культуры», о ценности прошлого (тогда эта мысль была внове), о необходимости оберегать наследие, варварски разрушенное ХХ веком. Недаром кончается книга тяжкой цементной пылью от «паршивого заводика», построенного невдалеке: она сыплется «на эту зрячую землю», «запорошит бессонные очи каменной коркой» и рано или поздно, скорее всего, закроет их.
Стоит ли ещё тот цементный завод? Не пережил ли парк и его, как пережил он, сделав частью своей памяти, многое и многих? Как бы там ни было, сегодня мы можем прочитать книгу другими глазами и в контексте другого времени. Задать себе вопросы, которые в девяностом, скорее всего, ещё не пришли бы нам в голову.
 Прозу Сенчина неправильно считать архаичной — это было бы значительным упрощением, как и вообще восприятие так называемого «нового реализма» через призму советских литературных институций (а ярлыки «советскости» навешивают на компанию «новых» даже умнейшие люди). И хотя стиль писателя Сенчина и его ближайших соратников до скрежета зубовного может напоминать тексты из подшивки журнала «Юность» за 1982 год, сходство это обманчиво. Да и претензии этой группы писателей глобальнее притязаний любого совписа, — полное описание наличной реальности, без упущений и изъянов, создание для нее своего рода текстовой копии. Советская архаика причудливо сочетается здесь с новыми веяниями — например, с балансированием на грани нон-фикшна или даже ультрамодного автофикшна (конечно, пропущенного через Лимонова), иногда приправленного литературной игрой в других условиях, пожалуй, выглядевшей бы изящно, но здесь вызывающей скорее недоумение.
Прозу Сенчина неправильно считать архаичной — это было бы значительным упрощением, как и вообще восприятие так называемого «нового реализма» через призму советских литературных институций (а ярлыки «советскости» навешивают на компанию «новых» даже умнейшие люди). И хотя стиль писателя Сенчина и его ближайших соратников до скрежета зубовного может напоминать тексты из подшивки журнала «Юность» за 1982 год, сходство это обманчиво. Да и претензии этой группы писателей глобальнее притязаний любого совписа, — полное описание наличной реальности, без упущений и изъянов, создание для нее своего рода текстовой копии. Советская архаика причудливо сочетается здесь с новыми веяниями — например, с балансированием на грани нон-фикшна или даже ультрамодного автофикшна (конечно, пропущенного через Лимонова), иногда приправленного литературной игрой в других условиях, пожалуй, выглядевшей бы изящно, но здесь вызывающей скорее недоумение. Проза эта — реалистическая только потому, что реализмом, вообще говоря, можно назвать все, что угодно. Старый («критический») реалист видел в предметах сходство, вовлеченность их в мировой порядок, сменивший его натуралист — различие, обусловленное средствами производства и чуть ли не тактильными ощущениями, а вот «новый» реалист, похоже, наблюдает лишь их бледные тени (почти как обитатели Платоновской пещеры). Это тоже, конечно, упрощение, но, надеюсь, наглядное.
Тем не менее такой «реализм» декларирует свою миметичность: он утверждает, что подражает реальности, и даже, что передает ее достаточно точно. Но как происходит это подражание? Легко заметить, что проза Сенчина в некотором смысле кинематографична: ее изобразительные возможности словно бы ограничены взглядом камеры, причем камеры, задействованной на съемках среднего уровня постсоветского телесериала, для которого, как и для сочинений Сенчина, характерны статичные планы в бедных декорациях, бесконечные и подчеркнуто лишенные содержания диалоги. Все происходящее оказывается предельно условно, но условность эта такова, что она невольно внушает доверие потребителю телевизионных эрзацев — это то самое аристотелевское правдоподобие (противопоставленное правде), ведь из газет и популярных фильмов читатель знает, что реальность выглядит именно так. И дело не в том, что действительность сведена к очертаниям и контурам (такое письмо само по себе может быть оправдано), а в том, что она втиснута в очень жесткие схемы, абсолютно задающие ее интерпретацию.
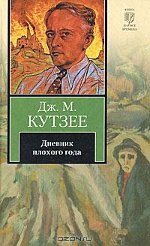 «Дневник плохого года» Джона Максвелла Кутзее — роман о том, что писателю не нравится в современном мире
«Дневник плохого года» Джона Максвелла Кутзее — роман о том, что писателю не нравится в современном миреДжон Максвелл Кутзее — из писателей, живущих не просто на литературном олимпе, но на самой его вершине. Нобелевская премия (2003) и два британских «Букера» (случай беспрецедентный) — только бессильное подтверждение его фантастического мастерства и рефлексивной мощи, проступающей во всех романах, хотя очевидней всего, пожалуй, в двух — «В ожидании варваров» и «Жизни Михаэля К». В каждой из своих книг Кутзее в обход или в лоб говорит о судьбе Южной Африки, из которой он родом, снова и снова обсуждая столкновение черных и белых, варварства и цивилизации, рабства и свободы.
«Дневник плохого года» — последний на сегодняшний день роман писателя — также проходит сквозь все эти больные, а вместе с тем и опорные для универсума Кутзее точки. Роман написан в 2007-м, но в отличие от сочинений модных и, очевидно, более внятных читательскому большинству авторов, в последние годы переводимых мгновенно, «Дневник» вышел по-русски лишь спустя четыре года — и остался практически незамеченным. Неудивительно: Кутзее слишком серьезен, безжалостен к человечеству и вовсе не озабочен тем, чтобы кому-то понравиться.
«Дневник плохого года» соединяет публицистику и любовную историю. Престарелый писатель, позаимствовавший у Кутзее инициалы и отдельные черты биографии, одиноко живет в Сиднее и западает на соседку сверху — очаровательную 29-летнюю филиппинку Аню, которую нанимает к себе машинисткой. Ему и в самом деле нужна помощница — писатель участвует в международном проекте, по условиям которого должен изложить соображения о том, что ему не нравится в современном мире. Задание, которое пришлось бы по вкусу и самому Кутзее — всегда занимавшему достаточно активную общественную позицию.
 Под маской холодного циничного интеллектуала и порнографа скрывается тонкая романтическая и в чем-то даже консервативная натура
Под маской холодного циничного интеллектуала и порнографа скрывается тонкая романтическая и в чем-то даже консервативная натура«Человечество, стадия 2» — второй авторский сборник эссе и других нехудожественных текстов Мишеля Уэльбека, выходящий на русском языке. Первый — «Мир как супермаркет» — вышел в 2004 году в издательстве Ad Marginem на пике популярности писателя в России. Значит ли это, что если тогда статьи Уэльбека годились для издательства, специализирующегося на бунтарях и альтернативной культуре, то к 2011 году его философия вполне годится для более широкого читателя, на которого ориентируется «Иностранка», раньше охотно печатавшая его романы, а сам Уэльбек окончательно закрепился в статусе современного классика французской литературы?
Если верить самому Уэльбеку, разграничение на беллетристику и нон-фикшн не имеет для него существенного значения. И он честно заявляет в предисловии, что для романа в принципе годится любой материал: «Теоретические размышления кажутся мне вполне достойным материалом для романа, не хуже любого другого, и даже лучше многих других. То же самое относится и к дискуссиям, и к интервью, и к диспутам… И с еще большей очевидностью — к литературной, художественной или музыкальной критике. Вообще говоря, все это должно было бы стать той единственной книгой, которую мы писали бы до смертного часа».
Собственно содержание сборника и составляют интервью, художественная и литературная критика, предисловия к книгам и даже одна словарная статья в энциклопедии рок-музыки. Тексты расположены в хронологической последовательности: от уже известного эссе «Жак Превер — мудак» (1992) — эдакой суммы против оптимизма, обильно уснащенной руганью в адрес поэтического реализма и Превера лично (кстати, в предыдущей редакции перевода название статьи звучало более миролюбиво, и Превер был назван всего лишь идиотом), до «Срезов почты» (2008), в котором такой же беспощадной критике подвергается Роб-Грийе и его писательский метод, остроумно сравниваемый Уэльбеком с методом наблюдения за срезом почвы в агрономии.