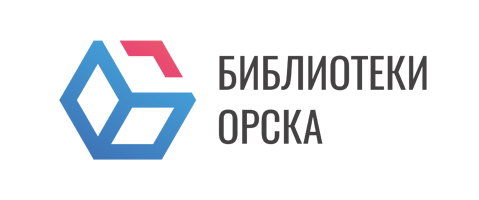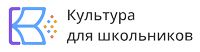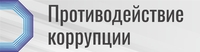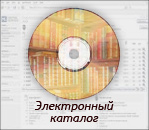Новости библиотеки
Советуем почитать
Советуем почитать
 Вдова принца
Вдова принцаПисательница Амели Нотомб написала роман-ребус, разгадка которого, похоже, сводится к шутке
«Кодекс принца» — играющий смысловыми оттенками роман-загадка, изящный пузырик, который знаменитая француженка Амели Нотомб выдула из распространенного человеческого недуга. А именно: желания оказаться не здесь и не в своей шкуре, просто потому что собственная жизнь скучна и предсказуема, на газоне же соседа фиалки определенно душистей.
Однажды в квартире парижского клерка Батиста Бордавы появился человек, произнес две фразы и испустил дух. Таинственный незнакомец оказался вестником той самой вожделенной чужой жизни. Наш герой поселился на принадлежавшей покойнику чудесной вилле в Версале, каждый день пил ледяную «Вдову Клико» в компании очаровательной хозяйки дома, и не подозревавшей, что она давно вдова, вел необязательные, но приятные разговоры, постепенно превращаясь в ее покойного мужа, который, в свою очередь, обрел очертания мсье Бордавы. Так что по логике этого, как метко заметил один французский критик, «Кафки superlight», умер-то как раз Батист Бордава, никому не нужная парижская конторская крыса, а состоятельный швед Олаф Сильдур остался в живых и даже основал под конец Фонд современного искусства. Книжечка Нотомб — еще и тонкая ирония над ним самым, современным. Тут, кажется, и кроется ключ ко всем странностям: похоже, перед нами всего лишь изящная пародия на излюбленные ходы массовой литературы, по-прежнему обожающей истории Золушек обоих полов — отчасти, собственно, принцев.
Майя Кучерская
 Когда папа` был маленьким
Когда папа` был маленьким«Французский роман» Бегбедера — об обретении памяти и прошлого в тюремной камере. Франция 1970-х к вашим услугам
Новый роман Фредерика Бегбедера основан на реальных событиях. Парижский повеса и модник, «человек легкий», как сказали бы французы, на этот раз серьезен как никогда. Еще бы! Тогда, в январе 2008 г., он попал в настоящую французскую тюрьму. Не за героизм, конечно, и не по ложному доносу — вместе с приятелями автор нашумевших «99 франков» и Windows on the World снюхивал кокаин с капота автомобиля прямо на глазах у полицейских. В тюрьме оказалось грязно и тесно, вместо туалета — дырка, пить не допросишься, а пьяный сосед по камере даже стал требовать со знаменитости 10 000 евро. Да! На ужин подали говядину с морковью, разогретую в микроволновке…
Понятно, что русскоязычному читателю с горой мемуаров о многолетнем кошмаре ГУЛАГа в анамнезе, с опытом постоянных, исходящих от стражей порядка унижений читать все эти ужасы про говядину и извиняющихся полицейских довольно-таки удивительно.
И все же даже этого небольшого, однако вполне реального страдания оказалось достаточно, чтобы тогда 42-летний, успешный и, что уж там, сытый человек обрел… что бы вы думали? Память. Прошлое.
Даже непонятно, почему в 27-й главе Бегбедер так мстительно сводит счеты с прокурором Парижа Жан-Клодом Мареном, продлившим его тюремное заключение на сутки. Провести пусть и пару ночей в камере действительно не сладко. Но Марен и компания подарили нашему герою напрочь забытое детство, юность и родных. Погибшего на Первой мировой прадеда, аристократических с материнской стороны, буржуазных с отцовской дедушек и бабушек с «правилами», о которых он начал думать, чтобы отвлечься от тесноты и вони. Они подарили ему эту книгу. Но благодарности не дождались.
Хотя два дня в тюрьме действительно стали для лирического героя Бегбедера обретением прошлого. Пляж в Гетари, рокот океана, ведро с плавающими в воде креветками, дед, который показал маленькому Фредерику, как плоские камешки «ходят по воде», вафли, конфеты и песенки, названия которых наверняка с острой ностальгией вспомнят все сорокалетние французские мальчики и девочки.
Словом, Бегбедер создает ароматный, объемный, сладкий мир недавнего, но безвозвратно исчезнувшего прошлого французской повседневности и завершает побег в свое детство сценой на том же пляже в Гетари. Теперь он сам показывает дочке, как рикошетит плоский камешек. Колечко замкнулось, чтобы отправиться, как многозначительно замечает Бегбедер, «в вечный полет».
Майя Кучерская
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/13/231134
 Пирамидальный синдром
Пирамидальный синдромВ новой повести Владимира Сорокина «Метель» путники сбиваются с дороги навсегда, потому что в России по-другому и быть не может
Поначалу происходящее в повести напоминает детскую игру. Мальчик сидит на полу, передвигает куклы и, одним глазком поглядывая в вечно работающий телевизор, крутящий американские блокбастеры, придумывает себе волшебный мир. Вот тут у меня длинная зимняя дорога, сочиняет мальчик, вот тут доктор Гарин в очках. Мужичок по прозвищу Перхушка везет Гарина на лошадках величиной с куропатку, запряженных в «самокат» (50 лошадиных сил), в деревню Долгово. Доктор едет спасать человечество, у него чудо-вакцина от «чернухи» — жуткого боливийского вируса.
Наш мальчик умеет читать, мальчик — школьник, недавно прочел «Капитанскую дочку», «Повести Белкина», учил наизусть стихи «Бесы» и подпустил для забавы путникам вслед хорошую русскую метель. Чтобы доктор и его возница как следует поплутали, завернули за помощью к смешному мельнику, крошечному человечку величиной с самовар, и его жене вполне нормального размера, чтобы въехали полозом в ноздрю великана-бомжа, замерзшего на дороге. Правда, фантазер наш, как выясняется, изрядно испорчен и, вероятней всего, переживает пубертатный кризис: мельник его — пьяница и матерщинник, мельничиха — распутница, а великан лепит громадного снеговика с торчащим деревом-фаллосом.
Понятное дело, вовсе не мальчик, а бывший мальчик все это написал и придумал. Видимо, с детства мечтавший выложить-таки проклятое слово «вечность» и прорваться к ней, подлинной вечности. Только складывал он свое слово изо льда, льдинок, в кромешном холоде собственных фантазий и сложить, разумеется, не мог, придумывая все новые и новые версии неудачи. По гипотезе, высказанной в «Метели», выложить недоступное слово на этот раз не удалось, потому что к цели он двигался через русские вьюжные дороги.
Впрочем, долой метафоры. Новая повесть Владимира Сорокина написана по мотивам самых разных произведений русской классики, но отчетливей всего рифмуется с повестью Лескова «На краю света». Там сибирская вьюга скрестила судьбы «человека цивилизации» и простеца, православного епископа и дикаря-язычника, который спас своего архиерея от неминуемой гибели. Перхушка тоже не раз спасает доктора Гарина от смерти, однако финал сорокинской «Метели», в отличие от лесковской истории и других бесчисленных прототипов, необычайно мрачен. Вакцина так и остается в докторском саквояже.
Потому что исцелить зараженную «чернухой» страну, страну великанов-алкоголиков, тратящих силу на то, чтоб лепить похабных снеговиков, и замерзающих пьяными в поле, страну маленьких мельников, одержимых манией величия, добрых, но недалеких мужичков, заледеневших в собственной гордыне докторов, невозможно. И потому светлое будущее в «Метели» за изобретателями чудо-технологий — «витаминдерами», обладателями живородящего войлока и пирамидок, меняющих сознание. Представлены же «витаминдеры» в повести сплошь казахами да китайцами. Не нравится вам такое будущее? Недостает вам в этих фантазиях оригинальности, творческого бесстрашия, молодецкой удали, которых в ранних вещах Сорокина (как к ним ни относись) было не в пример больше? Значит, эта пирамидка не для вас, обращайтесь к другим витаминдерам.
Майя Кучерская
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/05/230305
 Чтение по-соседски
Чтение по-соседскиВсе герои сборника статей Льва Лосева «Солженицын и Бродский как соседи» оказываются в прямом и косвенном родстве
Лев Лосев (1937-2009), петербуржец по месту рождения, поэт по призванию и профессор элитарного Дартмутского колледжа в Новой Англии по роду занятий, объединил в этом сборнике — как выяснилось, итоговом — статьи и эссе о русской литературе двух последних столетий.
Получилась одна из самых глубоких и поэтичных книг в области гуманитарного нон-фикшн за последние годы. Ее поэтичность сказывается во всем: и в чуткости, с какой разбираются стихи Ахматовой, Цветаевой, Маяковского, Рейна, и в явном знании тайн стихотворчества, и в певучем заглавии — «Солженицын и Бродский как соседи» — почти анапест, и в мышлении метафорами.
Легко читаемая метафора положена и в основу сборника: изящная словесность здесь, говоря словами другого поэта, не что иное, как «раздвижной и прижизненный дом». Дом, в котором живут литераторы — соответственно, соседи, но иногда и родственники, часто, впрочем, и не подозревающие о взаимном родстве.
Профессор Лосев — всеобщий любимец и всюду принят, а потому способен сравнить и эту неочевидную общность увидеть. Его сближения всегда неожиданны, но убедительны и продуктивны. Лосев объясняет, например, почему Ахматова, несмотря на несомненное «литературное сродство», так не любила Чехова — то был «невроз влияния», боязнь подчиниться художнику, мыслящему похожими образами. Он обнаруживает сюжеты Чехова в лирике Бродского, ставит рядом с западником Бродским славянофила Николая Рубцова и показывает, как много общего было между ними в годы литературной юности. Он говорит о том, что в устных рассказах Ахматовой присутствовала «полусерьезная тема родства с Достоевским» (отец ее как будто соперничал с Достоевским в ухаживании за некоей юной дамой); он отмечает, что между Ахматовой и Бродским возникло особое духовное и поэтическое родство, более всего соответствующее матрице «мать — сын» (а вовсе не «учитель — ученик»).
Лосев, наконец, отправляет Солженицына в гости к Бродскому, хотя в реальности, живя в полутора часах езды друг от друга, они так никогда и не встретились. Впрочем, состояли в краткой переписке и при всей разности позиций внимательно, если не ревниво, читали один другого — у Бродского при чтении «Ракового корпуса» дрожали руки, Солженицын не пропускал ни одной публикации поэта в эмигрантских изданиях.
Личное знакомство для Лосева важно лишь как естественное продолжение литературного родства, где второе, разумеется, гораздо важней. Лосев не устает цитировать ахматовское «подслушать у музыки что-то и выдать, шутя, за свое» как формулу творчества, каждый раз напоминая, что подслушивают «настоящие писатели» вовсе не у жизни, а у жизни, уже претворенной в музыку, в литературу. Интересней всего Лосеву вглядываться именно в эти вольные и невольные подслушивания, переклички, но вместе с тем в обстоятельства, их породившие.
А потому разговор о свойствах текста легко перетекает здесь в воспоминания о личных встречах с героями литературоведческих разборов — Сергеем Довлатовым, Евгением Рейном, Юзом Алешковским, Борисом Пастернаком, — придающие его наблюдениям над их поэзией и прозой новый ракурс. Из всего же этого вместе формируется очень лосевский жанр филологического портрета, удающийся ему с неизменным блеском. Ведь именно эта жанровая площадка позволяет развернуться и человеческим, и исследовательским его дарованиям — чуткости, благородству, душевной щедрости.
На страницах этой книги филология из синещекой зануды в очках, сыплющей на головы читателей «нарративы» и «дискурсы», превращается в очаровательную леди с румянцем во всю щеку и озорным блеском в глазах. Решительно эту книжку надо включить в программы филологических факультетов в качестве основного учебника — например, по теории литературы. Чтобы, помахивая ею, показывать: и о композиции, и о дискурсе можно говорить по-человечески. Умно, свежо, живо, доступно. Тем более что каждая статья здесь напоминает еще и об этимологии этой самой «филологии» — любовь, любовь к словам и их создателям.
Она так и плещет у Лосева через край, согревая и веселя. Он, что же, всех любил? Всех, о ком писал, — несомненно.
Поклонникам же книжек с картинками тут тоже есть чем поживиться. Лосев иллюстрирует свои штудии собственными филологическими стихами — тонкими, меткими, ироничными, чаще печальными, посвященными все тем же родным и близким поэта.
Майя Кучерская
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/03/22/228689
 Дума хороводом
Дума хороводом«Крепость сомнения» Антона Уткина — роман мысли, а не действия и чувства. Тем и интересен
Первый тираж только что вышедшего романа Антона Уткина «Крепость сомнения» — филигранной прозы о переворотах 1917-го и в 1990-х — уже распродан. Не надо быть прозорливцем, чтобы увидеть: роман наверняка ожидают и премиальные лавры. На счету Уткина уже была одна заметная награда — премия «Ясная Поляна» (2004) за роман «Хоровод». Аура ли той награды, медленно ли красивый стиль, отсылающий к классической прозе ХIХ в., но Уткина постоянно сравнивают с Львом Толстым. И мажут мимо. Ничего общего вообще-то.
Героям «Крепости сомнения» к концу 1990-х около тридцати. Перечислять имена и занятия этих молодых людей, равно как и тех, кто живет в романе за 70 лет до, необязательно: все здесь похожи, как отражения одного сознания.
Однако толстовскую Анну не спутаешь с Долли, князя Андрея — с Пьером, к тому же их жгут вопросы «зачем я?», «что есть смерть? верность?». Для героев Уткина этих свинченных винтов не существует. «Изменить», «быть неверным» и т. д. — все эти и подобные им слова Тимофей давно уже не употреблял и ими не думал«.
Герои, засевшие в уткинской крепости, с их затяжными мучительными любовями, потерянностью, поездками в боулинги и на горнолыжные курорты, словно отделены от нас матовым стеклом. Жизнь их страшно выморочена, зато размышления и разговоры — о логике российской истории, судьбах поколения, своей эпохе — чрезвычайно умны и интересны. «Крепость сомнения» — это роман мыслей и идей, родившихся в голове автора и щедро розданных героям. Но дефицит на серьезный разговор о себе в истории сейчас до того острый, что такое вот изящное эссе в лицах — как раз то, что надо.
Майя Кучерская
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/03/16/228168