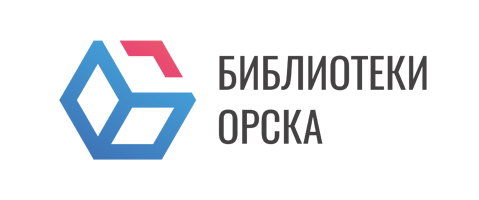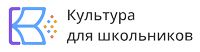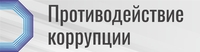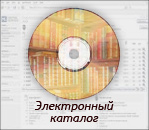Новости библиотеки
Советуем почитать
Советуем почитать
Быков, Д. Остромов, или Ученик Чародея (Пособие по левитации) / Д. Быков. — СПб.: Геликон Плюс, 2010
 Новый роман Дмитрия Быкова «Остромов, или Ученик чародея» рассказывает о тайне жизни и смерти.
Новый роман Дмитрия Быкова «Остромов, или Ученик чародея» рассказывает о тайне жизни и смерти.В питерском арт-клубе «Книги и кофе» Дмитрий Быков представил свой новый роман «Остромов, или Ученик чародея». Это заключительная часть трилогии, начавшейся с «Оправдания» (2001) и продолжившейся «Орфографией» (2003).
В «Остромове» речь идет о «деле ленинградских масонов» 1926 г. и ключевом фигуранте дела — Борисе Васильевиче Остромове. В фамилии его прототипа — Астромов — Быков сменил первую букву, очевидно продолжая игру с буквой «О» в заглавиях трилогии, а заодно развязывая себе руки.
Быковский Остромов — масон, авантюрист, сокрушитель женских и юношеских сердец, соответственно, еще и большой артист главного дела своей жизни — ловли человеческих душ — собирает в Ленинграде масонскую ложу, предварительно пообещав доносить обо всем в ней происходящем в ОГПУ. В масоны охотно записываются актрисы, юристы, экс-дворяне, студенты, студентки и прочие «бывшие» и «недовыясненные».
Собираясь вместе, они учатся под руководством Остромова медитировать, а заодно ловят остатки жизни, которая теплится в их сборищах и разговорах о монархии, Рафаэле, Достоевском, плюшевом христианстве, шумерах, Вавилоне или новой немецкой фильме.
 Старая машинерия пущена в ход в новых рассказах Сорокина не по инерции, а для демонстрации той степени распада, которую мы наблюдаем в окружающей нас реальности
Старая машинерия пущена в ход в новых рассказах Сорокина не по инерции, а для демонстрации той степени распада, которую мы наблюдаем в окружающей нас реальностиСтрах русского издателя перед рассказом велик. Так велик, что даже могущественное «ЭКСМО» как-то раз, издав сборник рассказов молодого иностранного писателя, продающегося по всему миру приличными тиражами и получающего призы за сценарии в Канне, заклиная финансовых духов, шлепнуло-таки на титул волшебное слово «роман». То есть чтобы в России издали твой сборник рассказов, нужно быть писателем из первой десятки: Пелевиным, Толстой, ну, или Сорокиным, ему тоже можно.
«Моноклон» трудно назвать «новой книгой»: рассказ «Тридцать первое» был опубликован в «Снобе»; «Черная лошадь с белым глазом», «Волны» и «Кухня» — в сборнике «Четыре»; «Занос» — у нас на OPENSPACE.RU. То, что часть текстов была опубликована именно в периодике, неслучайно.
 Глюк обкуренного патриарха
Глюк обкуренного патриархаВышло «Глубокое бурение» — сборник повестей Алексея Лукьянова с фантастикой различной дозировки — от полностью заглючившего мира сикарасек до оживших покойников в трудовой бригаде слесарей, плоской Земли и летающих человеко-жуков.
Каждая вещь сборника, если не в цикле, сама по себе. Без них, без остальных. И каждый раз с какой-то новой разновидностью Лукьянова. Иногда кажется, что в сборнике три автора. Иногда — что четыре.
Совершенно сюрреалистична, например, «Книга бытия» с иглокожими, хвостатыми, панцирными персонажами, странствующими в сжимаемом пространстве-времени и ведущими разборки в некоем психоделическом мире, где каждая узнанная деталь природы и быта — как редкий подарок ошалевшему от потока глюков читателю. А в «Глубоком бурении», напротив, работяги слесари и сварщики вкалывают и калымят, пьют пиво, воруют металл, режутся в домино с помершим и откопавшимся в виде скелета членом бригады скандальным Борей — как в жизни.
Проза не написанная, а точно выкованная автором, который на самом деле хоть и писатель, а еще и кузнец.
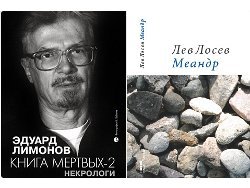 Лосев, Л. Меандр: Мемуарная проза / Л. Лосев. — М.: Новое издательство, 2010
Лосев, Л. Меандр: Мемуарная проза / Л. Лосев. — М.: Новое издательство, 2010Традиционно мемуары ограничиваются описанием событий и портретом героя, рассчитывая, что выводы читатель сделает самостоятельно. Но сегодня все меняется.
Проверку писательской гениальности давно перепоручили времени, надеясь, что когда-то «там» и «потом» оно расставит все по местам. Виной ли тому смена веков, а, значит, и переход границы, на которой пора решать, кто из авторов станет классиком следующего столетия, но сегодня мемуаристы стали торопится с вердиктами.
Вердикт наощупь
Поэт и литературовед Лев Лосев (1937 — 2009) помимо биографии Бродского в серии «ЖЗЛ», оставил еще и воспоминания «Про Иосифа». Эти небольшие эссе вошли в книгу «Меандр», изданную уже после смерти автора. Размышления о степени гениальности Бродского присутствовали и в «жэзээловском» жизнеописании, но там они носили скорее резонерский характер: эмигрировавший в 1976−ом и долгое время преподававший в американском университете, автор как будто разъяснял студентам, «кто есть кто в русской литературе».
На этот раз интуитивное постижение чужого таланта продвигается почти на уровне физиологии. Лосев вспоминает, как примерял пиджаки «с плеча» Бродского, гадает, что такого «было в его походке, осанке, что заставляло публику сторониться, расступаться». Когда опробовано осязание и зрение, очередь доходит даже до обоняния: «И уж совсем странное: я никогда не замечал, чтобы от него попахивало — потом или изо рта, хотя он и писал: «смрадно дыша и треща суставами»». Определение «гениальный» тоже как будто пробуется на вкус, ведь будучи произнесенным неискренне и невпопад, оно может привести к непоправимым последствиям: «А «гениальный» в смысле «очень-очень талантливый» пусть употребляют те, кто способен выговорить: «Старик, ты гений!» — и не сблевать». Подобное «доказательство от противного» в устах Лосева выглядит довольно убедительно. Во всяком случае, после выхода «Меандра» за Бродским надолго закрепится своеобразный «физиологический портрет».
 У последней книги Андрея Вознесенского печальная история. Новый сборник стихов был подготовлен самим поэтом к «некруглому юбилею – 77-летию», в итоге вышел уже после его смерти (ставшей для многих все же неожиданной). На страницах собраны стихи последних лет.
У последней книги Андрея Вознесенского печальная история. Новый сборник стихов был подготовлен самим поэтом к «некруглому юбилею – 77-летию», в итоге вышел уже после его смерти (ставшей для многих все же неожиданной). На страницах собраны стихи последних лет.Конечно, имя Андрея Вознесенского значимо, и мало кому взбредет в голову отрицать роль его творчества для 1960–1970-х годов, когда поэты-эстрадники собирали стадионы и стихами жгли этим стадионам сердца, фактически заменив своими выступлениями социально-политическую жизнь в стране. Тогда в особом почете был стих звонкий, емкий и крикливый. Отдельной строкой шло словотворчество и работа над звукописью. Большое внимание уделялось визуальным текстам, перевертышам и разного рода анаграммам, проще говоря, формальной стороне поэзии. Андрей Вознесенский остался верен традиции.
Однако сегодня языковые поиски поэта смотрятся достаточно неоднозначно, а местами и очень странно (хотя нужно отдать должное Вознесенскому, он ни на минуту не останавливался, стараясь идти в ногу со временем). В работе со словом он был мастером признанным, но человеком, судя по всему, увлекающимся. Ведь достаточно часто рядом со стихами неплохими и интересными встречается поэтическая тарабарщина, граничащая чуть ли не со знаменитым крученыховским «Дыр бул щур». «Мракобес, но не бездарен / муж Дарьин. / Не плох. Лоялен. / Лох Лялин» и так далее. Создается такое впечатление, будто Вознесенскому доставлял удовольствие сам процесс рифмования, что, в принципе, тоже неплохо. Ведь чтобы ни сказали критики, техническая сторона поэзии Вознесенского сильна. Думается, на любом поэтическом турнире Андрей Андреевич (будь он ныне жив) дал бы фору всякому ныне пишущему поэту, выхватывая рифмы на лету.