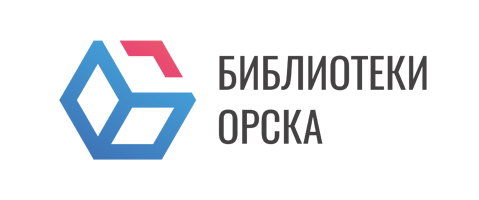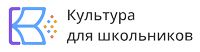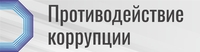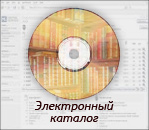Данилов, Д. Черный и зеленый / Д. Данилов. — М.: КоЛибри, 2010.
Данилов, Д. Черный и зеленый / Д. Данилов. — М.: КоЛибри, 2010.Ничего, ничего, часть дня
Кошмар у Дмитрия Данилова заперт в самой повседневности: работа в издательстве и очередь за американской визой впечатляют почище методичного деловитого трэша предшественников.
Человек живет жизнь. Чем она заполнена? Да, собственно, ничем.
«Позднее пробуждение.
Тупая, вызывающая сильное утомление праздность.
Горизонтальное положение, сон».
(«Горизонтальное положение»)
Мимо проходит время.
90-е. Свобода, распахнутое окно возможностей, веселые годы, «которые не вернутся никогда» (В. Никритин)? Нет — уныние, серость, одно абсурдное занятие за другим, торговля открытками, попытка заниматься версткой — правда, непонятно чего; наконец, «свой бизнес»: коробейник, мотающийся с набитыми чаем сумками по городкам Московской области.
И ландшафты — светлые и одновременно унылые, очаровательные и страшные в своем убожестве. Все это фиксируется — не описывается, а фиксируется — почти без эмоций, четко, правдиво, как фотоаппаратом.
«Хорошо, тихо, радостно. Все равно. Прошелестела под мостом речка Киржач. Вернулся на станцию. Теперь надо в Карабаново. Скоро уже электричка. Медленно проехал какой-то мелкий унылый поезд. И опять тихо. Стрекочут насекомые. Пахнет шпалопропиточным веществом».
«Черный и зеленый» («Черный и зеленый»)
Может быть, детские воспоминания окажутся ярче? Ах, молоко в пакетах… Где вы, классики на асфальте?.. Подробностей множество и у Дмитрия Данилова — катания по тушинским трамвайным маршрутам, дворовых футбольных матчей (два касания и каждый за себя). Умиления не наблюдается. Иных эмоций — тоже. Да, место есть и для ностальгии (детство все же), и для возмущения: что хорошего было там, в Тушине, с пустырями вместо спортивных площадок и уродливым, зато с претензией на европейский лоск, бульваром Яна Райниса? Но нет: только фиксация, только честный щелчок затвора. И — нет, птичка не вылетает.
«…заросли, так называемые зеленые насаждения. Деревья сильно разрослись, закрывают половину фасада. Это фактически маленький лес, между деревьями петляют тропинки. В одном месте среди деревьев стоял огромный камень, словно бы некий монумент неизвестному погибшему существу. Около камня Пили. Очень удобно было поставить на камень бутылки, расстелить газету, разложить закуску. Пили, орали и дрались. Пространство вокруг камня было густо усеяно битыми бутылками, пивными и водочными пробками, окурками и другой антропогенной грязью».
«Дом 10» («Черный и зеленый»)
А следующее десятилетие — глянцевое и коллажное. Уж оно-то должно быть ярче? Тем более поездки в Америку и на Север России, фестивали, молитвенная практика и занятия по сектоведению, литературные вечера, тексты, тексты, тексты... Яркости, однако, не прибавляется. Всякое разнообразие — однообразно.
«Черный и зеленый» и «Горизонтальное положение» — книги разные в жанровом отношении. Первая представляет собой сборник повестей и рассказов, вторая — роман. Первая осваивает преимущественно пространство: пригороды Москвы и Московскую область. Вторая — время: перед нами роман, написанный в форме дневника за год, тщательно фиксирующего все, что происходит с человеком за день. Но авторский метод и оптика в обеих книгах неизменны.
«Мы видим цепочку событий, мелких и несущественных, непрерывную цепочку, одно событие за другим, одно перетекает в другое, маленькие суетливые события, и между ними никаких промежутков, сплошное полотно, или конвейер, или эскалатор, нет никакого зазора между событиями, сплошное тихое медленное время, состоящее из событий…»
Любимое присловье героя «Горизонтального положения»: «Ничего, ничего». Так он говорит обычно о чем-то довольно отвратительном, но с чем за неимением лучшего приходится смириться, а то и вовсе принять это наименьшее из зол за добро.
«Если принимать препарат ортофен не на пустой желудок, то ничего, ничего».
«Сингл рум довольно маленький и убогий. Нет ни стола, ни стула. Только кровать, телевизор, две тумбочки, холодильник и удобства. Но ничего, ничего. Даже не ничего, а отлично».
«Лазанья в исполнении заведения “Сбарро” представляет собой слипшийся слоистый углеводисто-белковый четырехугольник. Но это ничего».
Но «ничего» — это и Ничего, Ничто, вселенский Нихиль, вакуум, в котором мы барахтаемся и которым сами заполнены до краев. Дмитрий Данилов пишет экзистенциальную прозу в постэкзистенциальную эпоху. Ценно у него каждое мгновение человеческой жизни, даже если оно наполнено пустотой.
«Ничего» приводит к полному отчуждению «Я» — прежде всего на уровне языка. И в романе, и в повестях, и в наиболее значимых рассказах Дмитрий Данилов полностью отказывается от личных местоимений в отношении своего героя, и непонятно, о себе рассказывает автор или о третьем лице — персонаже. Никакого третьего лица, впрочем, тоже нет. И второго. Безличные, чаще всего назывные предложения, сухая констатация происходящего. Обилие отглагольных существительных стирает грань между процессом и предметом. Действие опредмечивается, а вещный мир предстает лишь набором мелких и бессмысленных движений.
«Бесконечный вечер, минус сорок пять, лежание, засыпание, просыпание, чтение, ожидание холодной воды с чайником в руке, нагревание в чайнике воды, выпивание чая, горизонтальное положение, чтение, засыпание, сон».
Язык Дмитрия Данилова настолько отчужден от привычной речи, что его скупая, лишенная образов и метафор проза оборачивается поэзией — новой, современной, в значительной мере более западной, чем традиционно русской. Неслучайно на литературных вечерах Дмитрий Данилов выступает чаще всего вместе с поэтами.
Если говорить о Данилове как об экзистенциалисте, то его предшественником оказывается, прежде всего, Альбер Камю с его «Посторонним»; если как о мастере отчуждения (или, даже сказать, очуждения) — Бертольт Брехт. Данилов, впрочем, прямо указывает на своих учителей: это (по его словам) Владимир Сорокин и Юрий Мамлеев. Однако их повседневная унылая монотонность непременно оборачивается кровавым кошмаром — у каждого, правда, по-своему. У Данилова этот кошмар заперт в самой повседневности: работа в издательстве и очередь за американской визой впечатляют почище методичного деловитого трэша предшественников.
Нельзя не упомянуть о сродстве прозы Данилова с неподцензурной русской прозой второй половины века — и речь тут не о тех авторах, которых он сам называет. В его книгах, однако, нет ни отчаяния Евгения Харитонова (или Лимонова времен «Дневника неудачника»), ни изощренной игры смыслов, «скрытого сюжета» Павла Улитина, хотя каждому из них он, скорее всего, чем-то обязан. Натяжкой, пожалуй, стали бы и попытки свести генезис Данилова к прозе Александра Ильянена, который, в отличие от нашего автора, все же не чужд риторических фигур и сентиментальности, пусть и специфического рода. Однако прямой предшественник в русской прозе у Дмитрия Данилова — особенно применительно к «Горизонтальному положению» — все-таки есть: это трагически недооцененный Леон Богданов, его «Записки о чаепитии и землетрясениях». Эстетику Богданова Виктор Пивоваров в своих заметках возводит в конечном итоге к «запискам сумасшедшего», ставит Богданова в один ряд с Монастырским, Приговым, Лейдерманом, — что, впрочем, представляется некоторой натяжкой. Тем более далек от концептуализма Данилов. Здесь мы имеем дело скорее со своеобразным изводом «литературы существования», о которой писал некогда Гольдштейн. Сам он вряд ли одобрил бы Данилова; однако нельзя не признать, что к задаче как можно «дальше уйти от автоматизированных канонов фабульной, сюжетной, анекдотической (в старинном понимании слова) литературы» можно подойти и так, как это делает автор «Горизонтального положения».
Наиболее родственной проза Дмитрия Данилова оказывается даже не к литературе per se, а к тому странному явлению, которое называется у нас русским роком. В первую очередь приходит в голову, конечно, склонный к схоластическому бытописанию Егор Летов, цитата из которого «Проверим чемоданы, все ли в порядке, пошарим по карманам, все ли на месте» без принуждения, легко встраивается в текст «Горизонтального положения» и «Черного и зеленого». Но ближе всего здесь — ранние альбомы легендарной группы «Центр», с их аскетическим минимализмом, с их лишенной эмоций, документальной — в буквальном смысле — честностью.
«Алексеев, Николай Петрович — доктор. / Алексеев, Федор Степанович — инженер. / Алексеев, Сергей Иванович — агроном. / Алексеев, Владимир Павлович — шофер» 1. Есть у «Центра» и совсем близкое: «Горизонтальные люди в одной плоскости. / Горизонтальные люди лишены носкости».
Герой Данилова читает книгу и удивляется: «Как это писателям удается писать вот такие романы — огромные, сложные, с переплетающимися сюжетными линиями. С яркими героями. С глубокими идеями. Уму непостижимо».
Самому автору это не удается. Он не ставит такой задачи. Подчеркнуто неяркая, сухая речь и точная фотографическая (опять же, скорее не цветная, а монохромная) память Дмитрия Данилова — все это внезапно складывается на наших глазах в яркое событие русской прозы. Вот он, наблюдатель за временем, за тем, как оно идет мимо — мимо нас, лежащих горизонтально. Именно его, этого наблюдателя, взгляд линзой собирает реальность в ту точку, которая сперва начинает дымиться, а потом вспыхивает — внезапно, как магниевая вспышка.
И вот тут мы слышим (наконец!) хлопотание торопливых крыльев. Птичка вылетела. И снова никто не успел заметить, в какой момент — то есть когда именно, на каком слове — это произошло.
Евгения Риц
http://www.openspace.ru/literature/events/details/18136/
«Хорошо, тихо, радостно. Все равно. Прошелестела под мостом речка Киржач. Вернулся на станцию. Теперь надо в Карабаново. Скоро уже электричка. Медленно проехал какой-то мелкий унылый поезд. И опять тихо. Стрекочут насекомые. Пахнет шпалопропиточным веществом».
«Черный и зеленый» («Черный и зеленый»)
Может быть, детские воспоминания окажутся ярче? Ах, молоко в пакетах… Где вы, классики на асфальте?.. Подробностей множество и у Дмитрия Данилова — катания по тушинским трамвайным маршрутам, дворовых футбольных матчей (два касания и каждый за себя). Умиления не наблюдается. Иных эмоций — тоже. Да, место есть и для ностальгии (детство все же), и для возмущения: что хорошего было там, в Тушине, с пустырями вместо спортивных площадок и уродливым, зато с претензией на европейский лоск, бульваром Яна Райниса? Но нет: только фиксация, только честный щелчок затвора. И — нет, птичка не вылетает.
«…заросли, так называемые зеленые насаждения. Деревья сильно разрослись, закрывают половину фасада. Это фактически маленький лес, между деревьями петляют тропинки. В одном месте среди деревьев стоял огромный камень, словно бы некий монумент неизвестному погибшему существу. Около камня Пили. Очень удобно было поставить на камень бутылки, расстелить газету, разложить закуску. Пили, орали и дрались. Пространство вокруг камня было густо усеяно битыми бутылками, пивными и водочными пробками, окурками и другой антропогенной грязью».
«Дом 10» («Черный и зеленый»)
А следующее десятилетие — глянцевое и коллажное. Уж оно-то должно быть ярче? Тем более поездки в Америку и на Север России, фестивали, молитвенная практика и занятия по сектоведению, литературные вечера, тексты, тексты, тексты... Яркости, однако, не прибавляется. Всякое разнообразие — однообразно.
«Черный и зеленый» и «Горизонтальное положение» — книги разные в жанровом отношении. Первая представляет собой сборник повестей и рассказов, вторая — роман. Первая осваивает преимущественно пространство: пригороды Москвы и Московскую область. Вторая — время: перед нами роман, написанный в форме дневника за год, тщательно фиксирующего все, что происходит с человеком за день. Но авторский метод и оптика в обеих книгах неизменны.
«Мы видим цепочку событий, мелких и несущественных, непрерывную цепочку, одно событие за другим, одно перетекает в другое, маленькие суетливые события, и между ними никаких промежутков, сплошное полотно, или конвейер, или эскалатор, нет никакого зазора между событиями, сплошное тихое медленное время, состоящее из событий…»
Любимое присловье героя «Горизонтального положения»: «Ничего, ничего». Так он говорит обычно о чем-то довольно отвратительном, но с чем за неимением лучшего приходится смириться, а то и вовсе принять это наименьшее из зол за добро.
«Если принимать препарат ортофен не на пустой желудок, то ничего, ничего».
«Сингл рум довольно маленький и убогий. Нет ни стола, ни стула. Только кровать, телевизор, две тумбочки, холодильник и удобства. Но ничего, ничего. Даже не ничего, а отлично».
«Лазанья в исполнении заведения “Сбарро” представляет собой слипшийся слоистый углеводисто-белковый четырехугольник. Но это ничего».
Но «ничего» — это и Ничего, Ничто, вселенский Нихиль, вакуум, в котором мы барахтаемся и которым сами заполнены до краев. Дмитрий Данилов пишет экзистенциальную прозу в постэкзистенциальную эпоху. Ценно у него каждое мгновение человеческой жизни, даже если оно наполнено пустотой.
«Ничего» приводит к полному отчуждению «Я» — прежде всего на уровне языка. И в романе, и в повестях, и в наиболее значимых рассказах Дмитрий Данилов полностью отказывается от личных местоимений в отношении своего героя, и непонятно, о себе рассказывает автор или о третьем лице — персонаже. Никакого третьего лица, впрочем, тоже нет. И второго. Безличные, чаще всего назывные предложения, сухая констатация происходящего. Обилие отглагольных существительных стирает грань между процессом и предметом. Действие опредмечивается, а вещный мир предстает лишь набором мелких и бессмысленных движений.
«Бесконечный вечер, минус сорок пять, лежание, засыпание, просыпание, чтение, ожидание холодной воды с чайником в руке, нагревание в чайнике воды, выпивание чая, горизонтальное положение, чтение, засыпание, сон».
Язык Дмитрия Данилова настолько отчужден от привычной речи, что его скупая, лишенная образов и метафор проза оборачивается поэзией — новой, современной, в значительной мере более западной, чем традиционно русской. Неслучайно на литературных вечерах Дмитрий Данилов выступает чаще всего вместе с поэтами.
Если говорить о Данилове как об экзистенциалисте, то его предшественником оказывается, прежде всего, Альбер Камю с его «Посторонним»; если как о мастере отчуждения (или, даже сказать, очуждения) — Бертольт Брехт. Данилов, впрочем, прямо указывает на своих учителей: это (по его словам) Владимир Сорокин и Юрий Мамлеев. Однако их повседневная унылая монотонность непременно оборачивается кровавым кошмаром — у каждого, правда, по-своему. У Данилова этот кошмар заперт в самой повседневности: работа в издательстве и очередь за американской визой впечатляют почище методичного деловитого трэша предшественников.
Нельзя не упомянуть о сродстве прозы Данилова с неподцензурной русской прозой второй половины века — и речь тут не о тех авторах, которых он сам называет. В его книгах, однако, нет ни отчаяния Евгения Харитонова (или Лимонова времен «Дневника неудачника»), ни изощренной игры смыслов, «скрытого сюжета» Павла Улитина, хотя каждому из них он, скорее всего, чем-то обязан. Натяжкой, пожалуй, стали бы и попытки свести генезис Данилова к прозе Александра Ильянена, который, в отличие от нашего автора, все же не чужд риторических фигур и сентиментальности, пусть и специфического рода. Однако прямой предшественник в русской прозе у Дмитрия Данилова — особенно применительно к «Горизонтальному положению» — все-таки есть: это трагически недооцененный Леон Богданов, его «Записки о чаепитии и землетрясениях». Эстетику Богданова Виктор Пивоваров в своих заметках возводит в конечном итоге к «запискам сумасшедшего», ставит Богданова в один ряд с Монастырским, Приговым, Лейдерманом, — что, впрочем, представляется некоторой натяжкой. Тем более далек от концептуализма Данилов. Здесь мы имеем дело скорее со своеобразным изводом «литературы существования», о которой писал некогда Гольдштейн. Сам он вряд ли одобрил бы Данилова; однако нельзя не признать, что к задаче как можно «дальше уйти от автоматизированных канонов фабульной, сюжетной, анекдотической (в старинном понимании слова) литературы» можно подойти и так, как это делает автор «Горизонтального положения».
Наиболее родственной проза Дмитрия Данилова оказывается даже не к литературе per se, а к тому странному явлению, которое называется у нас русским роком. В первую очередь приходит в голову, конечно, склонный к схоластическому бытописанию Егор Летов, цитата из которого «Проверим чемоданы, все ли в порядке, пошарим по карманам, все ли на месте» без принуждения, легко встраивается в текст «Горизонтального положения» и «Черного и зеленого». Но ближе всего здесь — ранние альбомы легендарной группы «Центр», с их аскетическим минимализмом, с их лишенной эмоций, документальной — в буквальном смысле — честностью.
«Алексеев, Николай Петрович — доктор. / Алексеев, Федор Степанович — инженер. / Алексеев, Сергей Иванович — агроном. / Алексеев, Владимир Павлович — шофер» 1. Есть у «Центра» и совсем близкое: «Горизонтальные люди в одной плоскости. / Горизонтальные люди лишены носкости».
Герой Данилова читает книгу и удивляется: «Как это писателям удается писать вот такие романы — огромные, сложные, с переплетающимися сюжетными линиями. С яркими героями. С глубокими идеями. Уму непостижимо».
Самому автору это не удается. Он не ставит такой задачи. Подчеркнуто неяркая, сухая речь и точная фотографическая (опять же, скорее не цветная, а монохромная) память Дмитрия Данилова — все это внезапно складывается на наших глазах в яркое событие русской прозы. Вот он, наблюдатель за временем, за тем, как оно идет мимо — мимо нас, лежащих горизонтально. Именно его, этого наблюдателя, взгляд линзой собирает реальность в ту точку, которая сперва начинает дымиться, а потом вспыхивает — внезапно, как магниевая вспышка.
И вот тут мы слышим (наконец!) хлопотание торопливых крыльев. Птичка вылетела. И снова никто не успел заметить, в какой момент — то есть когда именно, на каком слове — это произошло.
Евгения Риц
http://www.openspace.ru/literature/events/details/18136/