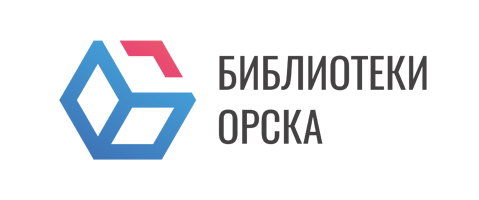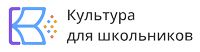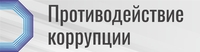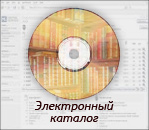3 сентября исполняется 80 лет со дня рождения Сергея Довлатова, одного из самых известных отечественных писателей, автора «Зоны», «Компромисса», «Заповедника», «Соло на ундервуде». Писатель и хороший, и очень популярный – такое сочетание встречается редко. Как правило, бывает что-то одно. В чем причина успеха довлатовской прозы, и насколько сегодня актуален ее главный герой – убежденный неудачник и созерцатель?
3 сентября исполняется 80 лет со дня рождения Сергея Довлатова, одного из самых известных отечественных писателей, автора «Зоны», «Компромисса», «Заповедника», «Соло на ундервуде». Писатель и хороший, и очень популярный – такое сочетание встречается редко. Как правило, бывает что-то одно. В чем причина успеха довлатовской прозы, и насколько сегодня актуален ее главный герой – убежденный неудачник и созерцатель?
Средство от ностальгии
Восторг от Довлатова в 1990-х вполне понятен: то было открытие непривычной по форме и тону прозы – остроумной, афористичной, подкупающе легкой и доверительно откровенной. Советские реалии этой прозы были всем хорошо знакомы, ведь эра развитого социализма только-только неблагополучно закончилась. Довлатова тогда читали с весело-победным настроением: как здорово, что описанный им маразм уже не повторится.
С тех пор сменилось несколько поколений. Советское время для многих стало предметом ностальгии, но довлатовские повести и рассказы к ностальгии не располагают. Наоборот, они напоминают о духоте эпохи, прямо говорят о невозможности полноценного человеческого существования в ней.
Если наше старое кино принято теперь смотреть, любуясь на некую «советскую гармонию» и благолепие, то перечитывать Довлатова с такими намерениями нельзя. Искатель ностальгии гарантированно получает обухом по голове: его встречают безнадежность, хамство и абсурд.
Свой человек
Казалось бы, сегодня аудитория Довлатова должна была ужаться до неширокой прослойки интеллигенции, не питающей иллюзий относительно светлого прошлого. Но нет – аудитория гораздо шире.
Многое у Довлатова снова становится актуальным по мере того, как советскую эпоху пытаются воскресить – причем в виде худших ее элементов: запретительства, чиновничьей демагогии, унылой пропаганды. Все то, что, казалось, было уже разоблачено и высмеяно, возвращается как ни в чем не бывало.
Однако герой Довлатова (а это почти всегда он сам) не только советский человек, но и типичный русский интеллигент: рефлексирующий, неустроенный, брезгующий борьбой за выживание. Хотя не такой уж типичный: надо еще поискать рефлексирующих интеллигентов двухметрового роста с телосложением боксера-тяжеловеса и фотогеничным лицом «неаполитанского бандита».
Персонажи Андрея Битова – вот герои интеллигенции, понятные только ей. Персонаж Довлатова понятен и близок гораздо более широкому кругу читателей. У него богатый опыт – от службы в конвойных войсках до попоек в среде «черной богемы». Он ведет рассказ легко и просто, его жизнь – цепочка анекдотических историй, грустных и веселых.
Довлатов стал «своим» почти для всех, кроме узкой прослойки населения, в которой повышенная совестливость считается слабостью, слово «неудачник» – ругательством, а самоуничижение – смертным грехом.
Много о себе
В России Довлатов был одним из первых, кто убедительно выступил в жанре автобиографической прозы. На Западе в ХХ веке такая литература бурно цвела благодаря Генри Миллеру, Джеку Керуаку, Чарльзу Буковски и им подобным. В отечественной литературе главным конкурентом Довлатова – по крайней мере, в его поколении – представляется Эдуард Лимонов, хотя во многом он его антипод.
Есть ли смысл рассказывать о жизни Довлатова, когда он столько написал о себе сам? Все уже описано в классическом трехтомнике: ленинградское детство в еврейско-армянской семье (отец администратор Александринского театра, мать бывшая актриса, корректор в «Лениздате»), короткая учеба на филфаке и несчастная любовь к девушке, любившей роскошную жизнь. Надорвавшись в таких отношениях, Довлатов бросает университет, добровольно идет в армию и попадает в Коми, в конвойные войска. Затем возвращение, питерская литературная среда, учеба на журфаке и работа журналистом. Три года в Таллине, затем экскурсовод в Пушкинских Горах, пьянство, эмиграция, газета «Новый американец», радио «Свобода»...
Автобиографическая проза не обещает правдивой истории жизни автора. События из жизни – лишь удобный материал для художественной работы, в которой фантазия важнее откровенности.
И все же выбрать именно себя в качестве главного героя – шаг ответственный и для времен Довлатова не совсем обычный. Это сейчас все привыкли сообщать граду и миру свое мнение по любому вопросу, а тогда это могло показаться слишком прямолинейным, грубоватым и, главное, самовлюбленным.
Переход на личность
Довлатов далеко не сразу стал писать о себе. Сначала упражнялся в более традиционных формах, скрывающих личность автора за событиями из жизни его персонажей. Думается, немалую роль в переходе на собственную личность сыграло отчаяние: когда у автора много лет не получается создать живой правдивый текст, он вполне может прибегнуть к «последнему средству» – исповеди, на которую так похоже начало «Невидимой книги», первого довлатовского текста зрелого периода.
Уже теперь, в эпоху реалити-шоу и видеоблогов, стало очевидно, что следить за жизнью другого человека – даже незнакомца – крайне интересное занятие.
Друзья и современники Довлатова любят подчеркивать его черту, теперь кажущуюся абсолютно заурядной, но в условиях советского коллективизма выглядевшую чуть ли не революционным новшеством. Это индивидуализм, желание быть отдельным человеком, иметь право на частную жизнь. Автобиографичность его текстов была манифестом этого скромного и естественного по нашим временам желания.
Тонкое искусство самоуничижения
Предвидя обвинения в нарциссизме – прежде всего от самого себя, – Довлатов старался компенсировать необходимость повышенного внимания к своей персоне постоянной самоиронией и даже самоуничижением.
Его герой настолько самоироничен, что становится почти что антигероем. Этот великан пассивно плывет по течению, угрюмо отказываясь не только от подвигов, но и от образа жизни обычного советского гражданина.
Став виртуозом самоиронии, Довлатов понял: этого недостаточно. Он все равно выглядел слишком привлекательным. Тогда в ход пошло саморазоблачение. В этом жанре он виртуоз – здесь важно подчеркнуть свои слабости, но не переборщить, отбив у читателя всякую охоту следить за слишком уж никчемным персонажем.
Довлатов не щадит себя и безжалостно подчеркивает недостатки, начиная с внешности и заканчивая самым драгоценным – литературным творчеством. Внешность, которая всем окружающим кажется на зависть эффектной, для Довлатова повод посетовать: слишком большой, слишком неуклюжий, бицепсов нет, ноги тонкие, лицо неинтеллектуальное. А вот о писательстве: «Бог дал мне именно то, о чем я всю жизнь его просил. Он сделал меня рядовым литератором. Став им, я убедился, что претендую на большее. Но было поздно. У Бога добавки не просят».
Если Лимонов везде, кроме ранних романов, представляет себя суперменом, то Довлатов решительно требует признания своей несостоятельности. Его герой как бы стесняется себя: своих габаритов, своих желаний и своей в общем-то неплохой жизни. И хочет извиниться за то, что он такой, но заодно и немного полюбоваться на себя. Писатель, чьи рассказы печатались в The New Yorker – главном эстетском журнале Америки, куда и Курта Воннегута не пускали, – мог себе позволить повздыхать о своей ограниченности.
Создатель мифов
Для выбранного Довлатовым личного жанра важна не столько яркая биография, сколько умение увлекательно описать заурядный бытовой эпизод. В этом Довлатов достиг высот. Он показывает читателю вроде бы хорошо знакомые ситуации, мимо которых тот проходит по сто раз на дню, и в изложении Довлатова из ничего получается нечто: абсурдные, нелепые, смешные истории.
Один и тот же случай можно встретить сразу в нескольких его повестях, и каждый раз он излагается по-новому, с другими деталями. Писатель намекает: «А как было на самом деле, вы не узнаете никогда». Ведь «на самом деле» могло быть вовсе не так интересно. Более того, в истории могли быть компоненты, которые писателю не хотелось разглашать. Так, ни в одном описании жизни Довлатова в Эстонии не упоминается Тамара Зибунова – женщина, которая приютила мятущегося писателя, всячески устраивала его таллинские дела и в итоге родила от него дочь Александру. Дочь, конечно, тоже не упоминается.
Довлатов славился не только наблюдательностью. Как правило, он «дорисовывал», достраивал ситуации в своем воображении, и тогда неловкая сцена из жизни становилась на бумаге значительным событием. Он создавал конденсированный мир, в котором персонажи говорят крылатыми фразами, а анекдотические ситуации происходят одна за другой.
Друзья Довлатова отмечали, что он был склонен не только приукрашивать, но и создавать нужные ситуации: скандалы, происшествия, сцены, разговоры, которые потом описывал в рассказах. Выставляя своего лирического героя неуклюжей и пассивной жертвой обстоятельств, писатель на самом деле был не чужд ни предприимчивости и находчивости, ни саморекламе.
Ремесло
Довлатов не из тех писателей, что создают искусство ради искусства. Ему до болезненности важна была реакция читателей (и писателей) – не только чтобы совершенствоваться, но и сама по себе. Он не скрывал, что хотел бы быть писателем не великим, но популярным – как Куприн.
Проза Довлатова лишь притворяется флегматичной. На самом деле она очень хочет понравиться читающему: смотри, как я могу. Такое бывает с профессиональными юмористами, произносящими свои монологи деланно безразличным тоном, за которым стоит точный расчет: вот в этом месте все должны засмеяться.
Довлатов порой годами оттачивал эффектные фразы, обороты и истории, обкатывая их в устных пересказах друзьям и знакомым, переписывая из текста в текст. И в конце концов эти перлы заблистали в его классических повестях и рассказах.
Печатали или не печатали?
Довлатов делает вид, будто его произведения рождались как-то сами собой на фоне бурной жизни. Между тем, наоборот, скорее жизнь была фоном и материалом для его прозы, которая появлялась благодаря тяжелому ежедневному труду.
С тех пор как молодой Довлатов вернулся из армии, переполненный дикими впечатлениями, так и просившимися в роман, литература стала центром его существования. Он решил стать писателем и почти до конца жизни мучился, что ему это (якобы) не удавалось.
По канонической версии, Довлатов очень страдал оттого, что в Советском Союзе его не печатали. Его действительно почти не печатали, особенно если учесть, сколько в тот период выходило из-под его пера – в «Ремесле» Довлатов упоминает 400 рассказов. Хотя иногда в журналах все же что-то выходило: в «Крокодиле», «Юности», «Неве».
Довлатов, в отличие от большинства его друзей из андеграунда, честно хотел стать официальным литератором, благо что оттепель дала дорогу и другим жанрам, помимо соцреализма. В начале 1960-х появилась масса интересных молодых авторов – Андрей Битов, Василий Аксенов, Борис Вахтин, Юрий Трифонов. Они делали новую литературу, и Довлатов страшно хотел оказаться с ними в компании – не только за столом, что случалось нередко, но и в литературном пространстве.
Но долгое время это не получалось. Довлатов писал как одержимый, заваливал своими рассказами друзей и редакторов журналов. Однако получал отказы не только от официальных лиц – даже друзья говорили: пока слабовато.
Неслучайно в одной из первых работ своего классического периода «Невидимая книга» (позже вошедшая в «Ремесло») Довлатов называет себя литературным неудачником. В этом, конечно, и его излюбленное самоуничижение, но и горькое признание (конец 1970-х) своего пока еще сомнительного статуса в современной литературе.
Школа
Те мучительные годы, что Довлатов описывал как мытарства талантливого прозаика, которого не пускают в печать, на самом деле были скорее школой, где вызрела настоящая довлатовская проза. Незадолго до смерти он признал: «Оглядываясь на свое безрадостное вроде бы прошлое, я понимаю, что мне ужасно повезло: мой литературный, так сказать, дебют был волею обстоятельств отсрочен лет на пятнадцать, а значит, в печать не попали те мои ранние, и не только ранние, сочинения, которых мне сейчас пришлось бы стыдиться». Ведь классический корпус своих повестей и рассказов он написал уже в эмиграции.
Долгое время он был невнятным персонажем на фоне признанных мэтров того времени. Теперь же, как заметил его друг и биограф писатель Валерий Попов, многих из этих авторов помнят только потому, что Довлатов упомянул их в своих книгах.
Другое дело, что страдания Довлатова были пусть и субъективными, но реальными. Многие его товарищи не видели большой трагедии в том, что их не публикуют. Писали спокойно в стол, в самиздат, а деньги зарабатывали каким-то официальным трудом.
У Довлатова тоже была официальная работа в ленинградской многотиражке «За кадры верфям», затем в «Советской Эстонии», но желание публиковаться было его идеей фикс. Более того, он спешил заявить о себе, словно времени было в обрез. Отчаяние, которое вызывала невозможность пробиться, «лечилось» классическим способом непризнанных гениев – тяжелыми запоями.
Водка
Пьянство Довлатов в своих повестях романтизировал, представляя в виде этакой драматичной и забавной советской неизбежности, приложения к сюрреализму нашей жизни. В его реальной жизни оно было тяжелой проблемой. «Если годами не пью, то помню о Ней, проклятой, с утра до ночи», – писал он. Она – это водка.
«Его пьянство, с точки зрения психиатрии, да для этого не нужно быть психиатром, любой пьющий мужик это знает, это была форма самоубийства. Именно так, как он пил. Он как бы втыкал нож в свое сердце и говорил: «На тебе, на тебе, на тебе», – объяснял скульптор Эрнст Неизвестный, хорошо знающий, что такое запой. Но Неизвестному был чужд самоубийственный надрыв, и прожил он, несмотря на все излишества, 91 год. Довлатов же умер от инфаркта 24 августа 1990 года, на пороге 49-летия и своего триумфа на родине.
Проза и поза
Если в жизни Довлатов очень хотел занять достойное место в литературной «табели о рангах», то для своего литературного героя выбрал более романтическую роль вечного аутсайдера.
Поэзия неудачи – это то, в чем Довлатов знал толк. Читал он роман Леонарда Коэна «Прекрасные неудачники» или нет, но название этой книги хорошо бы подошло к прозе Довлатова. Он воспел неудачу, возвеличил провал, упивался горечью поражения. При этом создается ощущение, что неудача – это в известном роде большая удача. Довлатовское восхищение ловкачами, которые «умеют жить» – светскими львами, фарцовщиками, приспособленцами, – лукаво: ни за что не поменялся бы он с ними местами. Успешных людей много, а совестливые наперечет.
«Он вообще не любил очень всяческое преуспеяние», – утверждает его ближайший друг писатель Андрей Арьев.
Живя в Ленинграде, герой Довлатова оказывался «на обочине» из-за внутренней неспособности участвовать в абсурде окружающей действительности. В эмиграции он обнаруживал, что этот абсурд успешно экспортирован в Америку бывшими советскими гражданами. Писатель не застал капиталистическую Россию, но можно быть уверенным, что и в ней он бы разглядел до боли знакомый бред.
В первую волну довлатовской популярности начала 1990-х, в эпоху малиновых пиджаков, романтизация неудачи и неудачника выглядела даже еще более актуальной, чем в советское время. Поза маргинала для многих – и особенно для интеллигенции – была альтернативой суете периода первоначального накопления капитала.
Для нынешних коучей, гуру «успешного успеха» и создателей «лучшей версии себя» Довлатов настоящий антипример: сплошное самоедство и никакой восторженной «любви к себе». То же самое можно сказать почти обо всех классиках русской литературы. Так что Сергей Донатович в хорошей компании. Лучшей версии себя он, несомненно, предпочел бы лучшую версию своей рукописи.
Источник